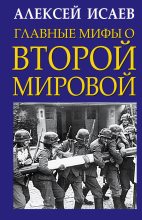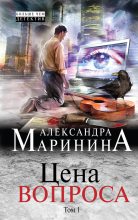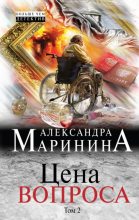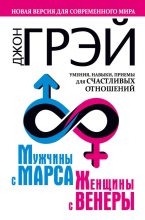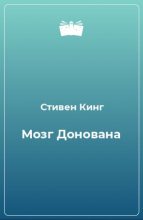чего в мой дремлющий тогда не входит ум
Пушкин и Державин
Любимому всем стихотворению «Осень» (1833) Пушкин взял эпиграфом слова из стихотворения Г.Державина «Евгению.Жизнь Званская»: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?».
А как современно его начало, которая характеризует разницу между людьми свободными, которые могут наслаждаться жизнью и людьми, зависимыми:
Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!
Одновременно он показывает и корни этой простой действительности, пропитанной разнообразным служением, включая примитивное служение за еду: «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут.»
По сути он демонстрирует повторение в этой простой жизни повторение всех элементов столичной жизни в достаточно грубой форме, что и является корнем массового бегства для любых людей этого мира в сторону меньшей зависимости, а не бегством от свободы к зависимости. Это такое уже отстраненное наслаждение человека самодостаточного, испробовавшего всего, для которого все мирское для него уже по сути «мертвое».
И сельски ратники как, царства став щитом,
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве,
«За веру, за царя мы, — говорят, — помрем,
Чем у французов быть в подданстве».
Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не воспомянется нигде и имя Званки;
Но сов, сычей из дупл огнезеленый взгляд
И разве дым сверкнет с землянки.
Но, как не странно, после 2 мировой войны, здесь поставят табличку о погибших и, заодно, пометят это место как имение Державина (пустой холм: 58.5994796,29.609634).
Посмотрим на конец державинского стиха:
Ты слышал их, и ты, будя твоим пером
Потомков ото сна, близ севера столицы,
Шепнешь в слух страннику, в дали как тихий гром:
«Здесь бога жил певец, — Фелицы».
О чем писла Пушкин в 1833 г. и зачем он поставил эпиграфом слова Державина? Можно думать о том, что это просто перекличка между чувствами двух великих поэтов.
Другие статьи в литературном дневнике:
Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум
Поэт описывает во всех подробностях один день своей «жизни Званской», длинный и медленный день, со множеством дел, и важных и неважных.
Рано встают в этом доме, и несложны занятия самого хозяина:
После чая хозяйка принимает дары сельской природы, добытые трудами крестьян, гостям показываются крестьянские рукоделья — «разные полотна, сукна, ткани, узоры, образцы салфеток, скатертей», потом слушается доклад врача маленькой званской больницы. Хозяин между тем удаляется для своих литературных трудов:
Не скупясь на краски и не боясь сделать быт предметом поэзии, Державин описывает обеденный стол:
Вот и вечер, окончились дневные хлопоты и забавы, шум в доме затихает, Державин остается один со своими мыслями:
«Званка» — усадьба Державина.
Титульный лист первой части сочинений Державина, изданной в 1808 году.
Скорбь о «минувшем красном дне», о славе былых побед, овладевает поэтом.
меланхолично замечает Державин и выражает лишь надежду на то, что имя его не забудется благодаря напоминаниям историков литературы. Грустен ход размышлений старого поэта.
взял Пушкин в качестве эпиграфа к своему стихотворению «Осень», взял, разумеется, не случайно, а думая о Державине и сопоставляя с ним свою жизнь. Но Пушкина волнуют иные мысли. Он полон творческих сил, с каждой осенью «расцветает вновь», он не замирает в покое, а стремится вперед —
Пушкин с изумительной точностью и остротой характеризует каждое время года, особенно любовно описывая осень. Бытовые детали, столь подробно изображенные Державиным в «Жизни Званской», его не занимают:
вот что говорит Пушкин о «привычках бытия» в этом стихотворении. Но зато, если Державин, упоминая о своем литературном труде, уделил ему мимолетное внимание:
то у Пушкина творческий процесс становится главной темой стихотворения. Нельзя не думать, что Пушкин не отталкивался от этих строк Державина, когда писал о своей работе.
Это различие двух поэтов, различие между гением и талантом, между непрерывным творческим горением и обычным сочинением стихотворных строк, было ясным для Пушкина, и оно сформировалось во вдохновенных строфах «Осени». Эпиграф из Державина и воспоминание о «Жизни Званской» помогли Пушкину приподнять завесу над тайнами своего творческого процесса.
Зимы Державины проводили в Петербурге. Дом их на Фонтанке был перестроен и расширен, сад разросся, кругом звенели молодые голоса: Державин воспитывал племянниц и племянников — дочерей Н. А. Львова, сыновей В. В. Капниста, в семье подолгу живали дети его друзей и родственников, гостили приезжавшие в столицу знакомые.
В 1806 году в доме Державина бывал Степан Петрович Жихарев, автор известных «Записок современника», тогда восемнадцатилетний юноша. Он оставил в
Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!
Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы,
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть
И пред вельможей пышны взоры?
Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Зваике?
Довольство, здравие, согласие с женой,
Покой мне нужен — дней в останке.
Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор;
Мой утренюет дух правителю вселенной;
Благодарю, что вновь чудес, красот позор
Открыл мне в жизни толь блаженной.
Пройдя минувшую и не нашедши в ней,
Чтоб черная змия мне сердце угрызала,
О! коль доволен я, оставил что людей
И честолюбия избег от жала!
Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,
Ищу красивых мест между лилей и роз,
Средь сада храм жезлом чертяще.
Иль, накорми моих пшеницей голубей,
Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги;
На разноперых птиц, поющих средь сетей,
На кроющих, как снегом, луги.
Пастушьего вблизи внимаю рога зов,
Вдали тетеревей глухое токованье,
Барашков в воздухе, в кустах свист соловьев,
Рев крав, гром жолн и коней ржанье.
На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар
Повеет с дома мне манжурской иль левантской,
Иду за круглый стол: и тут-то раздобар
О снах, молве градской, крестьянской;
О славных подвигах великих тех мужей,
Чьи в рамах по стенам златых блистают лицы.
Для вспоминанья их деяний, славных дней,
И для прикрас моей светлицы,
В которой поутру иль ввечеру порой
Дивлюся в Вестнике, в газетах иль журналах,
Россиян храбрости, как всяк из них герой,
Где есть Суворов в генералах;
В которой к госпоже, для похвалы гостей,
Приносят разные полотна, сукна, ткани,
Узорны образцы салфеток, скатертей,
Ковров, и кружев, и вязани;
Где с скотен, пчельников, и с птичен, и прудов
То в масле, то в сотах зрю злато под ветвями,
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов,
Сребро, трепещуще лещами;
В которой, обозрев больных в больнице, врач
Приходит доносить о их вреде, здоровье,
Прося на пищу им: тем с поливкой калач,
А тем лекарствица, в подспорье;
Где также иногда по биркам, по костям,
Усастый староста, иль скопидом брюхатой,
Дает отчет казне, и хлебу, и вещам,
С улыбкой часто плутоватой.
И где, случается, гудожники млады
Работы кажут их на древе, на холстине
И получают в дар подачи за труды,
А в час и денег по полтине.
И где до ужина, чтобы прогнать как сон,
В задоре иногда в игры зело горячи
Играем в карты мы, в ерошки, в фараон,
По грошу в долг и без отдачи.
Оттуда прихожу в святилище я муз
И с Флакком, Пиндаром, богов воседши в пире,
К царям, к друзьям моим иль к небу возношусь
Иль славлю сельску жизнь на лире;
Иль в зеркало времен, качая головой,
На страсти, на дела зрю древних, новых веков,
Не видя ничего, кроме любви одной
К себе, — и драки человеков.
«Всё суета сует! — я, воздыхая, мню;
Но, бросив взор на блеск светила полудневна, —
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю?
Творцом содержится вселенна.
Да будет на земли и в небесах его
Единого во всем вседействующа воля!
Он видит глубину всю сердца моего,
И строится моя им доля».
Дворовых между тем, крестьянских рой детей
Сбирается ко мне не для какой науки,
А взять по нескольку баранок, кренделей,
Чтобы во мне не зрели буки.
Письмоводитель мой тут должен на моих
Бумагах мараных, пастух как на овечках,
Репейник вычищать, — хоть мыслей нет больших,
Блестят и жучки в епанечках.
Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.
Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
Там щука пестрая — прекрасны!
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой:
А что опрятно всё и представляет Русь,
Припас домашний, свежий, здравой.
Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —
Беседа за сластьми шутлива.
Но молча вдруг встаем — бьет, искрами горя,
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен:
За здравье с громом пьем любезного царя.
Цариц, царевичей, царевен.
Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу леток
И тешусь разными играми.
Иль из кристальных вод, купален, между древ,
От солнца, от людей под скромным осененьем,
Там внемлю юношей, а здесь плесканье дев,
С душевным неким восхищеньем.
Иль в стекла оптики картинные места
Смотрю моих усадьб; на свитках грады, царства,
Моря, леса, — лежит вся мира красота
В глазах, искусств через коварства.
Иль в мрачном фонаре любуюсь, звезды зря
Бегущи в тишине по синю волн стремленью:
Так солнцы в воздухе, я мню, текут горя,
Премудрости ко прославленью.
Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льет
И, движа машину, древа на доски делит;
Как сквозь чугунных пар столпов на воздух бьет,
Клокоча огнь, толчет и мелет.
Иль любопытны, как бумажны руны волн
В лотки сквозь игл, колес, подобно снегу, льются
В пушистых локонах, и тьмы вдруг веретен
Марииной рукой прядутся.
Иль как на лен, на шелк цвет, пестрота и лоск,
Все прелести, красы, берутся с поль царицы;
Сталь жесткая, глядим, как мягкий, алый воск,
Куется в бердыши милицы.
И сельски ратники как, царства став щитом,
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве
«За веру, за царя мы, — говорят, — помрем,
Чем у французов быть в подданстве».
Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я соседей с вереницей;
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
То зайцев ловим псов станицей.
Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн,
Как дерн бугрит соха, злак трав падет косами,
Серпами злато нив, — и ароматов полн
Порхает ветр меж нимф рядами.
Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень
По копнам, по снопам, коврам желто-зеленым
И сходит солнышко на нижнюю степень
К холмам и рощам сине-темным.
Иль, утомясь, идем скирдов, дубов под сень:
На бреге Волхова разводим огнь дымистый;
Глядим, как на воду ложится красный день,
И пьем под небом чай душистый.
Забавно! в тьме челнов с сетьми как рыбаки,
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком;
Как парусы суда и лямкой бурлаки
Влекут одним под песнью духом.
Прекрасно! тихие, отлогие брега
И редки холмики, селений мелких полны,
Как, полосаты их клоня поля, луга,
Стоят над током струй безмолвны.
Приятно! как вдали сверкает луч с косы
И эхо за лесом под мглой гамит народа,
Жнецов поющих, жниц полк идет с полосы,
Когда мы едем из похода.
Стекл заревом горит мой храмовидный дом.
На гору желтый всход меж роз осиявая,
Где встречу водомет шумит лучей дождем,
Звучит музыка духовая.
Из жерл чугунных гром по праздникам ревет;
Под звездной молнией, под светлыми древами
Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет,
Поет и пляшет под гудками.
Но скучит как сия забава сельска нам,
Внутрь дома тешимся столиц увеселеньем;
Велим талантами родных своих детям
Блистать: музыкой, пляской, пеньем.
Амурчиков, харит плетень иль хоровод,
Заняв у Талии игру и Терпсихоры,
Цветочные венки пастух пастушке вьет, —
А мы на них и пялим взоры.
Там с арфы звучный порывный в души гром,
Здесь тихогрома с струн смягченны, плавны тоны
Бегут, — и в естестве согласия во всем
Дают нам чувствовать законы.
Но нет как праздника, и в будни я один,
На возвышении сидя столпов перильных,
При гуслях под вечер, челом моих седин
Склонясь, ношусь в мечтах умильных, —
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтаньи:
Проходят годы, дни, рев морь и бурей шум
И всех зефиров повеваньи.
Ах! где ж, ищу я вкруг, минувший красный день?
Победы слава где, лучи Екатерины?
Где Павловы дела? — Сокрылось солнце, — тень.
Кто весть и впредь полет орлиный?
Вид лета красного нам Александров век;
Он сердцем нежных лир удобен двигать струны;
Блаженствовал под ним в спокойстве человек,
Но мещет днесь и он перуны.
Умолкнут ли они? — Сие лишь знает тот,
Который к одному концу все правит сферы;
Он перстом их своим как строй какой ведет,
Ко благу общему склоняя меры.
Он корни помыслов, он зрит полет всех мечт
И поглумляется безумству человеков:
Тех «свещает мрак, тех помрачает свет,
И днешних, и грядущих веков.
Грудь россов утвердил, как стену, он в отпор
Темиру новому под Пултуском, Прейсш-Лау;
Младых вождей расцвел победами там взор,
И скрыл орла седого славу.
Так самых светлых звезд блеск меркнет от нощей.
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира!
Увы! и даже прах спахнет моих костей
Сатурн крылами с тленна мира.
Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,
Не воспомянется нигде и имя Званки;
Но сов, сычей из дупл огнезеленый взгляд
И разве дым сверкнет с землянки.
Иль нет, Евгений! ты, быв некогда моих
Свидетель песен здесь, взойдешь на холм тот
страшный,
Который тощих недр и сводов внутрь своих
Вождя, волхва, гроб кроет мрачный,
От коего как гром катается над иим
С булатных ржавых врат, и сбруи медной гулы
Так слышны под землей, как грохотом глухим
В лесах трясясь, звучат стрел тулы.
Так, разве ты, отец! святым твоим жезлом
Ударив об доски, заросши мхом, железны,
И свитых вкруг моей могилы змей гнездом
Прогонишь — бледну зависть — в бездны;
Не аря на колесо веселых, мрачных дней,
На возвышение, на пониженье счастья,
Единой правдою меня в умах людей
Чрез Клии воскресишь согласья.
Так, в мраке вечности она своей трубой
Удобна лишь явить то место, где отзывы
От лиры моея шумящею рекой
Неслись чрез холмы, долы, нивы.
Ты слышал их, — и ты, будя твоим пером
Потомков ото сна, близ Севера столицы,
Шепнешь в слух страннику, в дали как тихий гром:
«Здесь бога жил певец, Фелицы».
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум
Александр Пушкин
Осень
(отрывок)
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Державин
I
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
II
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!
III
Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги.
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.
IV
Ox, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.
V
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.
VII
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
VIII
И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).
IX
Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
Х
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
XI
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге.
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!— матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
Анализ стихотворения А. С. Пушкина «Осень»
Среди лирических произведений зрелого Пушкина выдающееся место принадлежит «Осени» (1833). По значимости и концентрированности содержания, по новаторству лирической формы, которой уже тесно в собственных рамках, «Осень» является одним из итогов стилевой эволюции Пушкина и в то же время программой дальнейшего пути русской поэзии более чем на сто лет вперед. Поэтому исследовательский интерес к стихотворению никогда не ослабевает. Для большинства пушкинистов обращение к «Осени» связано с общей проблематикой творчества поэта, однако существуют и отдельные очерки, и комментарий (преимущественно школьный).
Б.В. Томашевский и Л. Я. Гинзбург видят в «Осени» стилевую полифонию, емкое и сложное единство: в «стихотворении противоречие между патетическим и условно низким утрачивается совершенно»;
«. сфера значительного и прекрасного втягивает в себя, пронизывает собой и тем самым преобразует обыденные вещи». В этих суждениях констатируется едва ли не главное свойство «Осени»: интенсивное и глубокое взаимопроникновение самых разнородных художественных элементов. Другие исследователи обращаются к отдельным сторонам стихотворения, отмечая эпичность «Осени», детализацию и пластику образов, оксюмороны и пафос седьмой октавы, звукопись и т. п. В плане содержания выделяются описания природы, изображение творческого акта.
Некоторые из этих вопросов неизбежно возникнут и в настоящей работе, посвященной структурному и жанровому аспектам «Осени». Своеобычность структуры, жанра и общего смысла «Осени» хорошо очерчивается на литературном фоне эпохи. Даже без эпиграфа, взятого Пушкиным из описательного стихотворения Державина «Евгению. Жизнь званская» (1807), легко устанавливается перекличка, иногда полемическая, между двумя произведениями. Эпиграф же не только акцентирует тему творчества в «Осени», но, напоминая всю строфу Державина, освещает содержание пушкинского стихотворения целиком, поскольку и там и там говорится о человеке и мире, о времени и пространстве:
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтаньи:
Проходят годы, дни, рев морь и бурей шум
И всех зефиров повеваньи.
Сопоставление «Осени» с картиной званской жизни обнаруживает немало притяжений и отталкиваний между стихотворениями. Так, мотив спокойного, вольного, широко развернувшегося бытия звучит с самого начала сельской идиллии Державина:
Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы.
Снят, например, невозможный для Пушкина мотив любования своим помещичьим хозяйством, занимающий у Державина чрезвычайно много места. Державин пишет:
Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?
Таких слов у Пушкина нет, но такое настроение наполняет всю «Осень», ибо только внутренняя свобода, нескованность обеспечивают истинное творчество. Впрочем, и слова бывали, но в другом произведении:
Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая.
Еще более результативно сопоставление Пушкина с Баратынским.
Обе «Осени» кажутся эквигениальными. Их роднит философская основа, та «мысль», которую позже увидел Баратынский в ненапечатанных стихотворениях Пушкина. Только у Баратынского «мысль» выступает более откровенно, опираясь на образы, а у Пушкина она совершенно поглощена часто художественным развертыванием содержания.
С точки зрения понятийной логики это, конечно, верно. Но логика пушкинской образности в «Осени» настойчиво внушает нам, что поэт вовсе не «приподымается», а, напротив, погружается в действительность, максимально растворяя себя в ней как личность.
И тогда действительность расцветает в его «сладко усыпленном» сознании, тогда порождает, пользуясь воображением поэта, «плоды мечты».