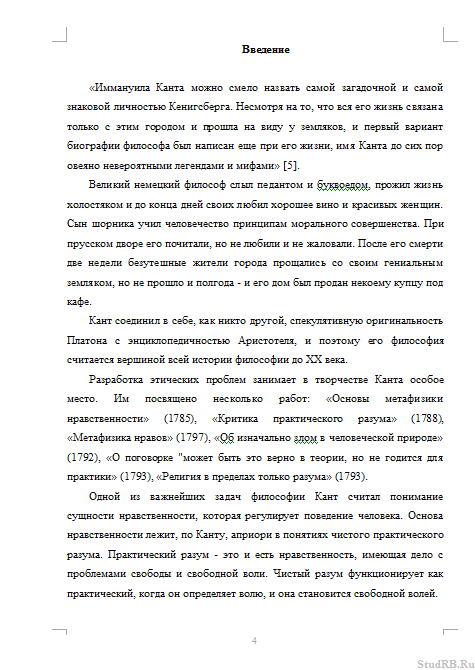этическое учение иммануила канта
Этическое учение Канта



В основе этики Канта, как и всей его философии, лежит различение между миром чувственным (эмпирическим) и миром умопостигаемым. На уровне эмпирического мира действуют чувственность и рассудок, обобщающий данные чувственности. В умопостигаемом мире действует разум в соответствии со всеобщими объективными законами разума, независимыми от чувственного эмпирического мира. В этическом и практическом аспектах эта независимость предстает как свобода и автономия разума от чувственных склонностей, потребностей и страстей. Объективные законы разума здесь выражены в форме объективных законов воления или императивов.
Центральным понятием этики Канта являются императивы и соответствующие им практические формулировки, предписания – максимы, но для выявления основополагающих императивов и максим Кант вводит вспомогательное понятие «царство целей», сыгравшее исключительную роль в последующей аксиологии. В основе любых нравственных оценок лежит категорический императив – основной закон этики Канта. Императив есть форма повелений, связанная с категорией должного. Категорическим императивом философ называет такую форму повеления, которая представляет собой действие как бы ради него самого, отношения к другой цели. Императив не связан со стремление к пользе или счастью людей, он носит строго формальный априорный характер и имеет форму заповеди, безусловной, обязательной для всех людей. Категорический императив формулируется следующим образом: поступай так, чтобы максима (основной принцип) твоей воли во всякое время могла бы служить принципом всеобщего законодательства. Этот принцип носит отвлеченный характер. Ему могут соответствовать самые разнообразные требования и постулаты: религиозные заповеди выводы житейской мудрости и многое другое. Важнейшей конкретизацией категорического императива является императив «практический»: поступай так, чтобы человечество в твоем лице, так же, как и в лице каждого другого непременно употреблялось как цель и никогда как средство.
Моральная теория Иммануила Канта не допускает исключений из реализации закона, которые были бы обусловлены неблагоприятными обстоятельствами.
Лжесвидетельство не должно быть услышано. Однако нравственный закон не принуждает к тому, чтобы героические свершения проводились, невзирая на неблагоприятные последствия или невозможность их реализации. Когда сам Кант был призван к тому, чтобы прекратить заниматься критикой религии, потому что этого требует нравственный закон, он подчинился и обязался не читать лекций о религии.
Тезис об этике умысла отвечает идее Канта о том, что нравственное поведение в качестве своей основы не должно иметь «склонности» и что оно тем более является заслуженным, чем больше мы должны преодолевать свой эгоизм. Эта идея основывается на строгом дуализме чувственности и закона. Чувственность не должна быть направлена на то, чтобы человек тяготел к поведению на основе закона.
Наоборот, если поведение на основе чувственности (например, симпатии, дружбы, любви) совпадает с действием на основе закона, то оно не имеет моральной ценности, так как оно не мотивировано законом. По И. Канту, лишь одно чувство не нарушает нравственной ценности поведения – это чувство уважения к закону, ибо оно относится к общей нравственной ценности.
Этика И. Канта содержит рассуждения о свободе человека. Свобода проявляется также в способности деятельности относительно природы.
В природе все происходит согласно закону причинности, а потому и наше поведение должно быть подчинено этому закону, поскольку оно воздействует на природу. В то же время моральная теория И. Канта основана на свободе человека. В заключении к «Основаниям метафизики нравов» И. Кант решает эту антиномию таким образом, что применяет к ней различие между «вещами в себе» и явлениями, которое он вводит в «Критике чистого разума». С одной стороны, наше я как «вещь в себе» принадлежит к «интеллигибельному» миру, который открывается нам нравственным поведением.
С другой стороны, мы как «представители чувственного мира» принадлежим к миру явлений. Из этого примера можно сказать, что И. Кант решает проблемы своей этической философии при помощи достижений теоретической философии. В действительности обе этические работы И. Канта основаны на предпосылке, что путем рефлексии нравственного поведения мы приходим к определенным заключениям, к которым нельзя прийти при помощи одной лишь теории.
Это относится и к свободе, которая остается недоказуемой для «Критики чистого разума» (возможная «каузальность через свободу» является недоказанной, потому что это утверждение является одним из членов антиномии), тогда как в этических трактатах И. Кант доказывает свободу как условие нравственного закона, который мы осознаем.
1. Этика И. Канта.
Формулировка категорического императива
Основная проблема этики И. Канта – проблема человече–ской свободы. Она являлась основной проблемой эпохи. И. Кант выводит взаимное равенство всех людей. Другое значе–ние решения И. Кантом этой проблемы состоит в том, что мы–слитель объясняет человеческую свободу господством челове–ка, его правом распоряжаться вещами.
Самую точную формулу автономии, являющуюся исход–ным пунктом его суждений, И. Кант дал в «Метафизических основах правовой науки». Согласно его формуле, наша свобо–да находится в зависимости от того, что связь между чувствен–ностью и поведением не имеет характера прямой необходимо–сти, но представляется как обусловленность.
У животного внешний раздражитель возбуждает инстинк–тивную реакцию, а у человека он рождает лишь желание удо–влетворения, к которому бы привела инстинктивная реакция В результате в акте воли мотивация является автономной, и определенность воли побеждается чувственным раздражи–телем. Различие автономно мотивированного поведения от поведения, которое определяется внешними условиями, явля–ется отличием между животным и человеческим уровнями жизни.
Кант этим самым объясняет высшую онтологическую цен–ность человека относительно природы. Как существо, способ–ное к автономной мотивации, человек становится «целью в се–бе», тогда как остальные животные суть лишь простые «средства». Эта онтология, разумеется, действительна лишь с точки зрения морального поведения, а не с теоретической точки зрения.
Во введении к произведению «Критика практического ра–зума» Кант пишет о свободе как «доводе существования» нравственного закона. После чего философ приступает к вы–ведению нравственного закона. Поведение человека по нрав–ственному закону определяется тем, что люди, относительно которых я произвожу какие-либо действия, проявляют такую же автономию, как и я, или что они являются целями в себе, но никогда не средствами для дела кого-то другого. Поэтому формула категорического императива, которая определяет со–держание морального поведения, звучит так: «Поступай так, чтобы использовать человека для себя так же, как и для друго–го, всегда как цель и никогда лишь как средство».
Согласно более патетичной, но не столь точной формуле из «Критики практического разума», нравственный закон пред–писывает неприкосновенность другого человека («Другой че–ловек должен быть для тебя святым»).
К формуле морального закона необходимо добавить, что моральный закон возведен на дуализме природного харак–тера человека и обязанности, из которой следует, что чело–век является существом, которое способно к свободному ре–шению, чем он и отличается от животных. Моральное поведение выступает ограничителем личного эгоизма, кото–рый следует из инстинкта самосохранения.
Таким образом, нравственное поведение, по И. Канту, сво–еобразно тем, что оно, во-первых, согласно закону, во-вто–рых, его мотивацией является достоинство человека. Нрав–ственный закон – это закон внеэмпирический, так как он не появляется в результате обобщения человеческого поведения. Таким же образом он не может возникнуть, так как касается лишь того, что должно быть, а не того, что есть. Он базирует–ся на моральной онтологии, но не на опыте. Опыт нам не мо–жет предоставлять примеры морального поведения, так как извне невозможно установить, живет ли кто-то по закону или его поведение только поверхностно согласно с поведением, которое имело бы в качестве основания нравственный закон.
И. Кант убежден в том, что знание закона не становится проблемой. Закон определяет каждый априори. Таким обра–зом, знание закона не определяется ни образованием, ни вос–питанием, оно не определяется и прямым познанием. Любой человек, не осознавая этого, находит суть характера человече–ского возвышения над природой и животными и свое равен–ство с другими. Человек, от которого потребуют лжесвидетель–ства, осознает, что он не должен так поступать, и понимает это сам по себе.
Невыразимое знание закона является фактом человеческо–го разума. Нравственный закон в результате не только проис–ходит из «разума», но он происходит из «чистого разума», т. е мы знаем о нем априори. В формуле нравственного закона, «естественного природного закона» парадоксальным считают понятие «природа». «Природа» здесь обозначает не внешнюю реальность, которая не зависит от человека, а отношения, ко–торые определяются правилами или «законом», действующим одинаково для обеих сторон.
Потому что «природа», по И. Канту, понимается как «бы–тие вещи, определенное общим законом», он может полагать и взаимность обязательств, доверительные договоры, депози–ты и т. д. примерами самой «природы». Обещания и доверие могут работать только благодаря тому, что работает общий дого–вор, правило, «закон», который предполагает, что вещи в приро–де в определенном смысле слова будут существовать лишь благодаря природным законам.
По И. Канту, нравственное значение отношений, которые основаны на договоре, соблюдение которого обязывает сторо–ны, следует из того, что категорический императив имеет свое–образие не только ограничивать собственный эгоизм, но и огра–ничивать себя, дабы не разрушить человеческое общество, построенное на основе взаимных отношений типа договора, соглашения, сохранения и т. п.
Эта «вторая природа» пострадает, если человек займет по–зицию естественного эгоизма. Моральное поведение будет иметь лишь ту цель, чтобы не нанести ущерб другому своим поведением, чтобы сохранить форму человеческого общества как «второй природы». Содержание нравственного императи–ва представляет также, что направление этического учения Канта не тождественно с христианской этикой. Кант считает, что нравственное поведение укрепили и зафиксировали слу–чаи взаимности, так как в них люди показывают то, что они не являются животными. При этом Кант не считает такое пове–дение бескорыстной службой, помощью, сочувствием и т. д.
Так, в частности, совершение добра Кант понимает лишь в смысле более широких обязанностей, которые не имеют та–кой обязательности, как те, несоблюдение которых рушит «природу». Эти обязанности относятся не к «строгим» и «не–минуемым» обязанностям, а лишь к «заслуженным» и «слу–чайным». Характерным для этики И. Канта является тезис, что моральную значимость нашему поведению придает умы–сел. Поэтому об этике И. Канта часто говорят как о «морали умысла». Этический ригоризм И. Канта объясняется тем, что он якобы учил действовать, невзирая на последствия, хотя бы они были и самоубийственными. Еще следует отметить, что определенная автономность намерения является необходи–мым элементом каждой этики, которая исходит из субъектив–ной воли и различает выбор и действие, намерение и его осу–ществление.
Моральная теория И. Канта не допускает исключений из реализации закона, которые были бы обусловлены неблагопри–ятными обстоятельствами. Лжесвидетельство не должно быть услышано. Однако нравственный закон не принуждает к тому, чтобы героические свершения проводились, невзирая на не–благоприятные последствия или невозможность их реализа–ции. Когда сам Кант был призван к тому, чтобы прекратить за–ниматься критикой религии, потому что этого требует нравственный закон, он подчинился и обязался не читать лек–ций о религии.
Тезис об этике умысла отвечает идее Канта о том, что нрав–ственное поведение в качестве своей основы не должно иметь «склонности» и что оно тем более является заслуженным, чем больше мы должны преодолевать свой эгоизм. Эта идея осно–вывается на строгом дуализме чувственности и закона. Чув–ственность не должна быть направлена на то, чтобы человек тяготел к поведению на основе закона.
Наоборот, если поведение на основе чувственности (на–пример, симпатии, дружбы, любви) совпадает с действием на основе закона, то оно не имеет моральной ценности, так как оно не мотивировано законом. По И. Канту, лишь одно чув–ство не нарушает нравственной ценности поведения – это чувство уважения к закону, ибо оно относится к общей нрав–ственной ценности.
Этика И. Канта содержит рассуждения о свободе человека Свобода проявляется также в способности деятельности отно–сительно природы.
В природе все происходит согласно закону причинности, а потому и наше поведение должно быть подчинено этому за–кону, поскольку оно воздействует на природу. В то же время моральная теория И. Канта основана на свободе человека В заключении к «Основаниям метафизики нравов» И. Кант решает эту антиномию таким образом, что применяет к ней различие между «вещами в себе» и явлениями, которое он вво–дит в «Критике чистого разума». С одной стороны, наше я как «вещь в себе» принадлежит к «интеллигибельному» миру, ко–торый открывается нам нравственным поведением.
С другой стороны, мы как «представители чувственного мира» принадлежим к миру явлений. Из этого примера можно сказать, что И. Кант решает проблемы своей этической фило–софии при помощи достижений теоретической философии В действительности обе этические работы И. Канта основаны на предпосылке, что путем рефлексии нравственного поведе–ния мы приходим к определенным заключениям, к которым нельзя прийти при помощи одной лишь теории.
Это относится и к свободе, которая остается недоказуемой для «Критики чистого разума» (возможная «каузальность че–рез свободу» является недоказанной, потому что это утвержде–ние является одним из членов антиномии), тогда как в этиче–ских трактатах И. Кант доказывает свободу как условие нравственного закона, который мы осознаем.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Этика
Этика Много писалось об этических нормах древних египтян. Мы знаем, что с древнейших времен жители этой страны отличались высокими моральными принципами. Первым было моральное обязательство по отношению к богу, но, поскольку царь и бог были едины, значит, моральное
В ГЕРМАНИИ У КАНТА
В ГЕРМАНИИ У КАНТА В том, что свое интеллектуальное путешествие Карамзин начал именно с Канта, был глубокий смысл. Конечно, здесь играли роль и географические обстоятельства. Но и для художественной композиции книги, и для идеологической «композиции» реального
2.2.3 Концепция гуманистического движения к идеалу всемирного гражданского общества И. Канта
2.2.3 Концепция гуманистического движения к идеалу всемирного гражданского общества И. Канта Кантовская концепция культуры представляет собой антропологическую эволюционно-прогрессирующую теорию. И. Кант (1724 – 1804) как основатель немецкой классической философии, в своей
6. Этика секса
6. Этика секса Эротический этикет не так строг, как этикет в других областях человеческой жизни. Однако как мужчины, так и женщины должны отвечать за свои поступки. Если женщина сексуально привлекательна, она должна соблюдать определенные правила, которые помогут ей
3. Этика Аристотеля
3. Этика Аристотеля Творчество Аристотеля (384—322 гг. до н. э.) считают вы–сшим развитием античной этики. Это вряд ли стало возмож–ным, если бы ученик Платона не превзошел своего учителя, сделав выбор в пользу истины.Всем нам известно высказывание философа: «Хотя Платон и
1. Этика А. Шопенгауэра
1. Этика А. Шопенгауэра Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788—1860 гг.) отверг своим учением многие принципы классической фило–софской традиции, в особенности ее представление о том, что нравственность должна формироваться на основе разумности. Обращаясь в основном к
2. Корпоративная этика
2. Корпоративная этика Предпринимательская этика регулирует также и отношения между предпринимателями в различных сообществах – ассо–циациях, гильдиях, корпорациях.Эти отношения предусматривают как отстаивание конку–рентных позиций, так и солидаристские связи,
5. Этика софистов
5. Этика софистов Этика античности была обращена к человеку. «Человек есть мера всех вещей» – эти слова Протагора исследователи по праву считают девизом для всех этических произведений данного периода. Для этических произведений античных авторов характерно
9. Этика Аристотеля
9. Этика Аристотеля «Этика» (учение о нравственности) понималась Аристотелем как жизненная мудрость, «практические» знания о том, что такое счастье и каковы средства для его достижения. Можно ли считать учение придерживаться правильных норм поведения и ведения
16. Этика Б. Спинозы
16. Этика Б. Спинозы Аксиоматический метод доказательства моралиОсновная установка мыслителей Нового времени предполагала выведение морали из природы, что часто становилось сведением ее к естественнонаучному знанию.Бенедикт Спиноза (1635–1677) превращает этику в
19. Формулировка категорического императива И. Канта
19. Формулировка категорического императива И. Канта Основная проблема этики Иммануила Канта – проблема человеческой свободы. Она являлась основной проблемой эпохи. И. Кант выводит взаимное равенство всех людей. Другое значение решения И. Кантом этой проблемы состоит в
20. Этика И. Канта
20. Этика И. Канта Моральная теория Иммануила Канта не допускает исключений из реализации закона, которые были бы обусловлены неблагоприятными обстоятельствами. Лжесвидетельство не должно быть услышано. Однако нравственный закон не принуждает к тому, чтобы героические
22. Этика А. Шопенгауэра
22. Этика А. Шопенгауэра Немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788–1860) отверг своим учением многие принципы классической философской традиции, в особенности ее представление о том, что нравственность должна формироваться на основе разумности.Основная философская идея
35. Новая этика
35. Новая этика Демократический строй и проблема формирования новой этикиНовая этика предлагает различные способы постижения и должного выражения моральных ценностей; обрисовываются различные «круги проблем» с разной субординацией в них (либо, в частности, признается
Реферат: Этическое учение И. Канта
Тема: Этическое учение И. Канта
Тип: Реферат | Размер: 27.78K | Скачано: 228 | Добавлен 14.12.08 в 12:30 | Рейтинг: +41 | Еще Рефераты
Год и город: Киров 2008
Содержание
Введение 3
1. Библиографические сведения 4
2. Основные положения этического учения И. Канта 6
3. Автономная добрая воля в этике И. Канта 11
4.Социокультурное значение этики И. Канта 20
5. Содержательный анализ значения идей Канта 22
Библиографический список 24
Введение
«Иммануила Канта можно смело назвать самой загадочной и самой знаковой личностью Кенигсберга. Несмотря на то, что вся его жизнь связана только с этим городом и прошла на виду у земляков, и первый вариант биографии философа был написан еще при его жизни, имя Канта до сих пор овеяно невероятными легендами и мифами» [5].
Кант соединил в себе, как никто другой, спекулятивную оригинальность Платона с энциклопедичностью Аристотеля, и поэтому его философия считается вершиной всей истории философии до XX века.
Разработка этических проблем занимает в творчестве Канта особое место. Им посвящено несколько работ: «Основы метафизики нравственности» (1785), «Критика практического разума» (1788), «Метафизика нравов» (1797), «Об изначально злом в человеческой природе» (1792), «О поговорке «может быть это верно в теории, но не годится для практики» (1793), «Религия в пределах только разума» (1793).
1. Биографические сведения
Жизнь Канта была бедна событиями. Он жил спокойной и размеренной жизнью, путешествовал мало и приобрел репутацию очень пунктуального человека. Ежедневно совершал прогулки в точно назначенное время, и люди могли сверять свои часы по этим прогулкам. И. Кант имел много друзей, его уважали и им восхищались все те, кто знал его, но его социальная жизнь была также регулируема, как и работа. Он так и остался холостяком, хотя, как говорят, любил компании, особенно красивых и воспитанных женщин. Он заслужил репутацию живого лектора, хотя никто не мог это сказать на основании его работ, которые трудны для понимания и сухи, как по стилю, так и по содержанию.
В 1745 году закончил университет. В течение девяти лет жил и работал домашним учителем в аристократических семьях, что давало материальные средства для занятий на досуге философскими исследованиями. В 1755 году получил звание приват-доцента университета. Следующие 15 лет, в ожидании профессуры, служил в Кенигсбергской дворцовой библиотеке в должности помощника библиотекаря [1].
Этот период философского развития Канта называют «докритическим». В числе основных работ – «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755), «Новое освещение первых принципов метафизического познания» (1755), «Грезы духовидца» (1766).
К этому времени вызрело принципиально важное признание Канта о целях его работы: «Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трех задач:
1) что я могу знать? (метафизика);
2) что я должен делать? (мораль);
2. Основные положения этического учения И. Канта
«В основе этики Канта, как и всей его философии, лежит различение между миром чувственным (эмпирическим) и миром умопостигаемым. На уровне эмпирического мира действуют чувственность и рассудок, обобщающий данные чувственности. В умопостигаемом мире действует разум в соответствии со всеобщими объективными законами разума, независимыми от чувственного эмпирического мира. В этическом и практическом аспектах эта независимость предстает как свобода и автономия разума от чувственных склонностей, потребностей и страстей. Объективные законы разума здесь выражены в форме объективных законов воления или императивов» [3].
«. Императивы суть только формулы для выражения отношения объективных законов воления вообще к субъективному несовершенству воли того или иного разумного существа, например, воли человека. Все императивы, далее, повелевают или гипотетически, или категорически. Первые представляют практическую необходимость возможного поступка как средство к чему-то другому, чего желают (или же, возможно, что желают) достигнуть. Категорическим императивом был бы такой, который представлял бы какой-нибудь поступок как объективно необходимый сам по себе, безотносительно к какой-нибудь другой цели» [2].
Центральным понятием этики Канта являются императивы и соответствующие им практические формулировки, предписания — максимы, но для выявления основополагающих императивов и максим Кант вводит вспомогательное понятие «царство целей», сыгравшее исключительную роль в последующей аксиологии.
«Понятие каждого разумного существа, обязанного смотреть на себя как на устанавливающее через все максимы своей воли всеобщие законы, чтобы с этой точки зрения судить о самом себе и своих поступках, приводит к другому, связанному с ним очень плодотворному понятию, а именно к понятию царства целей.
Под царством же я понимаю систематическую связь между различными разумными существами через общие им законы. А так как законы определяют цели согласно своей общезначимости, то, если отвлечься от индивидуальных различий между разумными существами, равно как и от всего содержания их частных целей, можно мыслить целое всех целей (и разумных существ как целей самих по себе, и собственных целей, которые каждое из них ставит самому себе) в систематической связи, т.е. царство целей, которое возможно согласно вышеуказанным принципам.
Кант неустанно проводит различие между целями, имеющими источник в чувственном мире склонностей и потребностей, и целями, которые значимы «сами по себе», в силу своего соответствия объективным законам разума и воления. Именно эти цели имеют собственное достоинство, значимость, ценность. Тут мы подходим, наконец, к понятию ценности, также вспомогательному для Канта, но центральному для нас.
«Все предметы склонности имеют лишь обусловленную ценность, так как если бы не было склонностей и основанных на них потребностей, то и предмет их не имел бы никакой ценности. Сами же склонности как источник потребностей имеют столь мало абсолютной ценности, ради которой следовало бы желать их самих, что общее желание, какое должно иметь каждое разумное существо, — это быть совершенно свободным от них. Таким образом, ценность всех приобретаемых благодаря нашим поступкам предметов всегда обусловлена.
Предметы, существование которых хотя зависит не от нашей воли, а от природы, имеют тем не менее, если они не наделены разумом, только относительную ценность, как средства, и называются поэтому вещами, тогда как разумные существа называются лицами, так как их природа уже выделяет их как цели сами по себе, то есть как нечто, что не следует применять только как средство, стало быть, постольку ограничивает всякий произвол (и составляет предмет уважения). Они, значит, не только субъективные цели, существование которых как результат нашего поступка имеет ценность для нас; они объективные цели, т.е. предметы, существование которых само по себе есть цель, и эта цель не может быть заменена никакой другой целью, для которой они должны были бы служить только средством; без этого вообще нельзя было бы найти ничего, что обладало бы абсолютной ценностью; но если бы всякая ценность была обусловлена, стало быть случайна, то для разума вообще не могло быть никакого высшего практического принципа» [2].
Две последние сослагательные конструкции ясно показывают априористскую логику Канта. «Высший практический принцип (разум) необходимо существует, иначе вообще об этике и практике нельзя было бы мыслить. Но если этот принцип существует, значит что-то обладает абсолютной ценностью, ведь в мире только обусловленных (случайных, по Канту) ценностей для высших принципов не было бы места. Но если есть абсолютная ценность, то есть и объективные цели, значимые сами по себе. Конечно, для Канта такими целями являются прежде всего сами носители разума — разумные существа (например, люди). Главное свойство этих разумных существ — действовать согласно всеобщим моральным законам. Отсюда и следуют две хрестоматийные формулировки категорического императива, десятки раз с некоторыми синтаксическими вариациями повторяемые Кантом во всех его этических сочинениях:
— всегда относиться к человеку в лице других и самого себя как к цели, а не только как к средству;
— поступать так, чтобы максима поступка могла бы стать всеобщим законом для всех.
Схематично основы этики Канта могут быть представлены в виде двух рядов понятий, один из которых связан с чувственным, обусловленным, случайным, другой — с разумным, моральным, абсолютным, необходимым:
— чувственный (эмпирический) мир
— зависимость от склонностей и потребностей
— субъективные цели, соответствующие склонностям
— относительные ценности, обладающие ценой, допускающие эквивалентную замену
— объективные законы разума и воления
— объективные цели, соответствующие всеобщим законам воления
— абсолютные ценности, обладающие достоинством, не могущие
быть замененными ничем
С неугасающим пафосом Кант противопоставляет элементы правого ряда элементам левого и утверждает безусловное главенство первых над вторыми. Столь же разделенными оказываются и верховные принципы, к которым восходят эти сферы этического: долг (мораль, нравственность) и счастье. Кант отдает себе отчет, что люди реально стремятся прежде всего к счастью, но и здесь устанавливает главенство долга. Принцип состоит в следующем: прежде всего человеку нужно стать достойным счастья, а этого можно достичь лишь выполнением долга»[3].
Таким образом, Кант по-своему и весьма остроумно решает задачу перехода от эмпирически данных эвдемонических стремлений людей к нормативным моралистическим установкам. В свое время эту задачу решали и Платон, искавший наилучшую пропорцию стремлений к удовольствию и истине; и Аристотель, который представил высшее благо — счастье как деятельность в соответствии с добродетелями; и Гоббс, который без лишних умствований переходил от релятивизма индивидуальных благ к необходимости служения всеобщему благу государства; и Локк, элегантно связавший естественные стремления индивида к пользе с необходимостью выполнять установленные правила, чтобы не ущемлять свободу и стремление к пользе других равных индивидов.
«Несмотря на мостик, перекинутый от счастья к долгу (т.е. к сфере морали), Кант видит оставшуюся глубокую пропасть между этими двумя принципами и для преодоления ее считает необходимым признать две трансцендентальные идеи: о бессмертии души (для надежды о будущем вознаграждении счастьем за нравственную жизнь) и о существовании Бога (как единого источника, дарующего и счастье, и законы нравственности). Эти центральные идеи «Критики практического разума» стоят в стороне от ценностной проблематики, но их нельзя не упомянуть даже в самом кратком изложении этики Канта. Кроме того, Кант здесь силой и авторитетом своей априористской логики узаконил традицию, идущую от Декарта и Лейбница, прикрывать наиболее глубокие разрывы мышления ссылкой на непознаваемую божественную тайну. Впоследствии этим приемом пользовался В. Виндельбанд, один из основателей теории ценностей, и другие авторы» [3].
3. Автономная добрая воля в этике И. Канта
Исходное понятие этики Канта – автономная добрая воля.
Говоря о ней, Кант поднимался до высокого пафоса. «Нигде в мире, да и нигде за его пределами невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться благом без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумие и способность суждения и как бы там ни назывались таланты духа, или мужество, решительность, целеустремленность как свойства темперамента в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны; но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добра воля, которая должна пользоваться этими дарами природы.
. Если бы даже в силу особой немилости судьбы или жалкого состояния мачехи – природы эта воля была бы совершенно не в состоянии достигнуть своей цели; если бы при всех стараниях она ничего не добилась и оставалась одна только добрая воля (конечно, не просто как желание, а как применение всех средств, поскольку они в нашей власти), – то все же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность».
Кантовская добрая воля не пассивна, от ее носителя мыслитель требует действия, поступка. Канта критиковали за формальный подход к делу: то, что в одних условиях благо, в других может оказаться злом. Последнее справедливо, и философ знал это. Он говорил лишь о компасе, который помогает человеку ориентироваться среди бурь и волнений житейского моря. Конечно, любой компас подвержен помехам, но они проходят, а стрелка снова тянется к полюсу, так и потеря моральных ориентиров недолговечна, рано или поздно перед человеком проясняется нравственный горизонт, и он видит, куда ведут его поступки – к добру или злу. Добро есть добро, даже если никто не добр. Критерии здесь абсолютны и очевидны, как различие между правой и левой рукой.
Для того чтобы распознать добро и зло, не нужно специального образования, достаточно интуиции. Последним термином Кант предпочитал не пользоваться; его термин – способность суждения, она от «бога», от природы, а не от знаний. «Чтобы быть честными и добрыми и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии». Здесь Кант расходится с «первооткрывателем» морали Сократом, для которого добро совпадает со знанием и отсутствие знания является единственным источником всякого морального несовершенства. Сам сын века Просвещения и ревностный его поборник, Кант вместе с тем выходит за пределы просветительского рационализма. Наука и мораль разные сферы человеческого бытия.
В теории, удаляясь от эмпирии, разум впадает в противоречия с самим собой, приходит к загадкам, к хаосу неизвестности, неясности, неустойчивости. Иное дело в поведении. Практическая способность суждения, освобождаясь от чувственного материала, устраняет привходящие наслоения и упрощает себе задачу. Моральность предстает здесь в очищенном, незамутненном виде. Вот почему, хотя мораль рождается вне философии, философствование идет ей на пользу. «Невинность, конечно, прекрасная вещь, но, с другой стороны, очень плохо, что eе трудно сохранить и легко совратить. Поэтому сама мудрость, которая вообще‑то больше состоит в образе действий, чем в знании, все же нуждается в науке не для того, чтобы у нее учиться, а для того, чтобы ввести в употребление ее предписание и закрепить его».
Только в практической (нравственной) сфере разум приобретает конститутивную функцию, то есть решает конструктивную задачу формирования понятий и их реализации. Предмет практического разума – высшее благо, то есть обнаружение и осуществление того, что нужно для свободы человека. Кант говорит о первенстве практического разума перед теоретическим. Главное – поведение, вначале дело, знание потом. Философия вырывается здесь из плена умозрительных конструкций, выходит в сферу жизненно важных проблем, помогая человеку обрести под ногами твердую нравственную почву.
Философский анализ нравственных понятий говорит о том, что они не выводятся из опыта, они априорно заложены в разуме человека. Кант в разных местах настойчиво повторяет эту мысль. Надо правильно ее понять. Кант не исследует происхождения морали в целом как формы сознания, которая возникла вместе с обществом и вместе с ним трансформировалась. Речь идет только о нравственном статусе индивида. Повседневный опыт антагонистического общества противостоит моральности, скорее духовно уродует, нежели воспитывает человека. Моральный поступок выглядит как результат некоего внутреннего императива, порой идущего вразрез с аморальной практикой окружающей действительности.
Строго говоря, любой поступок императивен, он требует для своего свершения концентрации воли. Моральный поступок – следствие категорического императива; человек не стремится при этом достичь никакой цели, поступок необходим сам по себе.
Во втором случае цель имеется, но весьма туманная. Дело касается счастья человека. Гипотетический императив приобретает здесь форму советов благоразумия. Последние совпадали бы с правилами уменья, если бы кто‑нибудь дал четкое понятие о счастье. Увы, это невозможно. Хотя каждый человек желает достичь счастья, тем не менее он не в состоянии определенно и в полном согласии с самим собой сказать, чего он, собственно, хочет, что ему нужно. Человек стремится к богатству – сколько забот, зависти и ненависти он может вследствие этого навлечь на себя. Он хочет знаний и понимания – нужны ли они ему, принесут ли они ему удовлетворение, когда он узрит скрытые пока что от него несчастья? Он мечтает о долгой жизни, но кто поручится, что она не будет для него лишь долгим страданием? Он желает себе, по крайней мере, здоровья – но как часто слабость тела удерживала от распутства? В отношении счастья невозможен никакой императив, который в строжайшем смысле предписывал бы совершать то, что делает счастливым, так как счастье есть идеал не разума, а воображения и покоится на сугубо эмпирических основаниях.
Нравственность нельзя построить на таком зыбком основании, каким является принцип счастья. Если каждый будет стремиться только к своему счастью, то максима человеческого поведения приобретет весьма своеобразную «всеобщность». Возникнет «гармония», подобная той, которую изобразил сатирический поэт, нарисовавший сердечное согласие двух супругов, разоряющих друг друга: о удивительная гармония! Чего хочет он, того хочет и она! При таких условиях невозможно найти нравственный закон, который правил бы всеми.
Дело не меняется от того, что во главу угла ставится всеобщее счастье. Здесь люди также не могут договориться между собой, цель неопределенна, средства зыбки, все зависит от мнения, которое весьма непостоянно. Поэтому никто не может принудить другого быть счастливым так, как он того хочет, как он представляет себе благополучие других людей. Моральный закон только потому мыслится как объективно необходимый, что он должен иметь силу для каждого, кто обладает разумом и волей.
Категорический императив Канта в окончательной формулировке звучит следующим образом: поступай так, чтобы правило твоей воли могло всегда стать принципом всеобщего законодательства. По сути дела, это парафраз древней истины: веди себя в отношении другого так, как ты хотел бы, чтобы он вел себя в отношении тебя. Делай то, что должны делать все.
Кантовский категорический императив нетрудно подвергнуть критике: он формален и абстрактен, как библейские заповеди. Например, не укради. А если речь идет о куске хлеба, и человек умирает от голода, и хозяину хлеба потеря этого куска ничем не грозит? Кант вовсе не за то, чтобы люди умирали, а рядом пропадала пища. Просто он хочет называть вещи своими именами. На худой конец, укради, только не выдавай свой поступок за моральный. Вот в чем вся соль. Мораль есть мораль, а воровство есть воровство. В определениях надо быть точным.
И все же они мучают Канта. В позднем своем труде «Метафизика нравов», излагая этическое учение, Кант ко многим параграфам присовокупил своеобразные дополнения (как антитезис к тезису), озаглавленные всюду одинаково – «Казуистические вопросы».
Наиболее прочная опора нравственности, единственный истинный источник категорического императива – долг. Только долг, а не какой‑либо иной мотив придает поступку моральный характер. «Имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они без всякого другого тщеславного или своекорыстного побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовывался с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой нравственной ценности». Впоследствии Кант смягчил жесткость своих формулировок. Если первоначально он противопоставил любовь долгу, то потом нашел способ объединить их.
Кант был в числе первых мыслителей, провозгласивших безотносительную ценность человеческой личности независимо от расовой, национальной и сословной принадлежности. Один из вариантов категорического императива гласит: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству
Многое зависит от самого человека. Есть такое понятие – достоинство. Надо знать, что это значит, и уметь сохранять его. Не становитесь холопом другого человека. Не допускайте безнаказанного попрания ваших прав. Не делайте долгов. Не принимайте благодеяний. Не становитесь прихлебателями или льстецами. Тогда, говорит Кант, вы сохраните свое достоинство. А кто превратил себя в червя, пусть не жалуется потом, что его топчут ногами.
Специально «для класса мыслителей» Кант сформулировал следующие максимы: 1) Думать самому. 2) Мысленно ставить себя на место другого. 3) Всегда мыслить в согласии с самим собой. Интеллект дан человеку для того, чтобы он мог им пользоваться без какого‑либо принуждения, чтобы его духовный горизонт был достаточно широк, а образ мысли последователен.
Решительно высказывается Кант против любого фанатизма, характеризуя его как «нарушение границ человеческого разума». Даже «героический фанатизм» стоиков не привлекает его. Только трезвое осознание долга руководит поведением мыслящего человека. «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям, ты требуешь подчинения, хотя, чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы; ты только устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе (хотя и не всегда исполнение); перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе втайне противодействовали, – где же твой, достойный тебя источник и где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями, и откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое только люди могут дать себе?
Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой (как частью чувственно воспринимаемого мира), что связывает его с порядком вещей, который может мыслить только рассудок и которому вместе с тем подчинен весь чувственно воспринимаемый мир. Это не что иное, как личность»[1].
Под словом «личность» Кант понимает два принципиально различных кантовских термина – «Person» и «Personlichkeit». Первый термин означает «лицо», только второй – «личность». Под лицом Кант понимает человеческий индивид, отличающий себя от других, олицетворение принципа «я мыслю», личность есть нечто большее, чем носитель сознания, последнее в личности становится самосознанием. Быть личностью – значит быть свободным, реализовать свое самосознание в поведении. Ибо природа человека – его свобода.
Свобода с точки зрения этики не произвол. Не просто логическая конструкция, при которой из данной причины могут на равных правах проистекать различные действия. Хочу – поступлю так, а хочу – совсем наоборот. Нравственная свобода личности состоит в осознании и выполнении долга. Перед самим собой и другими людьми «свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, – это одно и то же».
Человек – дитя двух миров. Принадлежность к чувственно воспринимаемому (феноменальному) миру делает человека игрушкой внешней причинности, здесь он подчинен посторонним силам – законам природы и установлениям общества. Но как член интеллигибельного (ноуменального) мира «вещей самих по себе» он наделен свободой. Эти два мира не антимиры, они взаимодействуют друг с другом. Интеллигибельный мир содержит основание чувственно воспринимаемого мира.
Так и ноуменальный характер человека лежит в основе его феноменального характера. Беда, когда второй берет верх над первым. Задача воспитания состоит в том, чтобы человек целиком руководствовался бы своим ноуменальным характером. Принимая то или иное жизненно важное решение, исходил бы не из соображений внешнего порядка (карьера, барыш и пр.), а исключительно из повеления долга. Для того чтобы не совершалось обратного, человек наделен совестью – удивительной способностью самоконтроля.
«Человек может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон поведение, о котором он вспоминает, представить себе как неумышленную оплошность, просто как неосторожность, которой никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной необходимости, чтобы признать себя невиновным; и все же он видит, что адвокат, который говорит в его пользу, никак не может заставить замолчать в нем обвинителя, если он сознает, что при совершении несправедливости он был в здравом уме, т. е. мог пользоваться своей свободой».
Механизм совести устраняет раздвоенность человека. Нельзя все правильно понимать, но неправедно поступать; одной ногой стоять в мире интеллигибельном, а другой – в феноменальном; знать одно, а делать другое. С совестью нельзя играть в прятки. Никакие сделки с ней невозможны. И ее не усыпишь, рано или поздно она проснется и заставит держать ответ.
Определи себя сам, проникнись сознанием морального долга, следуй ему всегда и везде, сам отвечай за свои поступки – такова квинтэссенция кантовской этики, строгой и бескомпромиссной.
4.Социокультурное значение этики И. Канта
Значение этического учения Канта раскрывается только в контексте духовной и мыслительной эволюции Нового времени. Дискредитация традиционного панрелигиозного мировоззрения шла рука об руку с усилением индивидуалистического, гедонистического и утилитаристского направлений в этике. Успехам естественных наук соответствовало «снижение» источников и оснований нравственности: определение их в естественных потребностях и склонностях человека. Благодаря многолетним усилиям вольнодумцев и просветителей божественный авторитет стал слишком слабым для поддержки социально-нормативного, ригористического направления в этике. Кант же выступил в роли главного реставратора этого направления, но в качестве основания ригористических принципов своей этики он, оставаясь в русле движения Просвещения, использует разум, объективные всеобщие законы разума.
Все исторические параллели хромают, тем не менее, выявление структурных инвариантов обычно проясняет ситуацию и служит лучшему пониманию различия сравниваемых эпох. Индивидуалистическую и утилитаристскую этику Нового времени можно сопоставить с индивидуализмом и утилитаризмом софистов, подорвавших в свое время традиционное мифологическое мировоззрение.
В таком случае Кант выступает в роли Сократа: оба они осуществили реставрацию холистического, социально-нормативного, ригористического начала, причем оба — на новых принципах интеллектуализма: если будешь мыслить строго, правильно и познаешь истинное благо (или всеобщий объективный моральный закон), то и поступать будешь верно.
На этом пути Сократ и Кант получили результаты, имеющие фундаментальное значение для последующего развития философии. Во многом именно с Сократа начинается строгое определение общих понятий, диалектика и философская дедукция. С Канта начинается априористская техника философствования; своими идеями законов разума и воления, царства целей, достоинства (объективной значимости) Кант установил и узаконил философское пространство, в котором последующие мыслители будут размещать «значимости», «ценности», «символы», «экзистенциалы», «парадигмы» и прочее.
Сократ и Кант ставили границы своему мышлению и мышлению вообще. Сократ воздерживался от постулирования философских догматов и систем, от вольной спекуляции категориями, стремясь лишь к «майевтике» (помощи в рождении) забытых душою истин. Знаменитый критицизм Канта состоит именно в установлении границ человеческому мышлению.
5. Содержательный анализ значения идей Канта
Учение Канта, прежде всего его этика, послужили источником для появления теории ценностей. Если кантовские идеи действительно имеют перспективную значимость, то они должны помогать в решении фундаментальных проблем современного понимания ценностей. Проблема обоснования ценностей является аспектом более общей и широко обсуждающейся сейчас проблемы обоснования морали.
Отказавшись от каких-либо догматов и «объективных всеобщих законов разума», мы оказываемся в таком пространстве свободы, от которого захватывает дух. Но эта свобода без точки опоры всегда грозит обернуться пустотой. Состояние духа, когда «все дозволено», веселило и пьянило Ницше, но более чуткому к движению истории и человеческим страданиям Достоевскому внушало справедливые опасения.
Искомую точку опоры должны составлять такие принципы, которые по крайней мере не давали бы моральной санкции явному злу. Но как определить это зло и требуемые принципы, ценности, если признана культурная специфика и историчность морали, в том числе всех ее принципов и всех ценностей?
Здесь на помощь приходит кантовское различение обусловленных и абсолютных ценностей, его знаменитый априоризм. Большинство ценностей обусловлено наличием соответствующих склонностей и потребностей человека, но есть такие, для которых наличие или отсутствие склонностей не имеет значения. Это ценности, осуществление (ненарушение) которых объективно необходимо для того, чтобы человек мог обдумывать, выбирать и осуществлять любые ценности.
Hо каков должен быть масштаб рассмотрения: народ, страна, сообщество цивилизованных стран? В данном случае твердая философская позиция Канта представляется безупречной: речь может идти только о всех разумных существах, а нам пока известны только люди. Значит, масштабом должен быть человеческий род. На этом уровне также есть ценности, связанные с выживанием, жизнеобеспечением, культурой, политико-правовым обеспечением прав и свобод личности.
Универсальный философский масштаб мышления Канта, говорящего о всех разумных существах и развитии человеческого рода в целом, получает особую значимость в современную эпоху действительной мировой интеграции, настоятельно требующую новых глобальных ценностных ориентиров.
Учтем также, что огромная часть мирового населения ежедневно голодает, гибнет от скученности и антисанитарии, неграмотна, не имеет реальной гражданской и экономической свободы. Относиться к каждому из этих людей «как к цели, а не только как к средству», — пожалуй, верная, но уж очень отвлеченная и ни к чему не обязывающая задача. Зато применение в этой ситуации системы общезначимых ценностей, которые могут быть установлены с помощью кантовской априорной логики, может дать ясные и ответственные практические ориентиры.
Кантовское учение всегда будет одной из важнейших вех в развитии этики. Но его априорная логика, смысловое пространство целей (значимостей, ценностей) и общечеловеческий универсализм выходят за пределы конкретного историко-философского значения. Они составляют мыслительный фундамент и нравственную перспективу дальнейшего развития человеческой цивилизации.
Библиографический список
1. Гулыга А.В. Кант. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 303 с.
2. Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума / Соч. в 6-ти томах. – М, 1965. – 245 с.
3. Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. — 1998. — 292 с.
4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н. Лавриненко, проф. В.П. Ратникова. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 584 с.
5. http://www.peoples.ru/science/philosophy/kant/index.html (Сайт: Известия науки». Статья И. Стулова «В Кенигсберге к нему прилетал сам мессир…»).
Чтобы полностью ознакомиться с рефератом, скачайте файл!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы