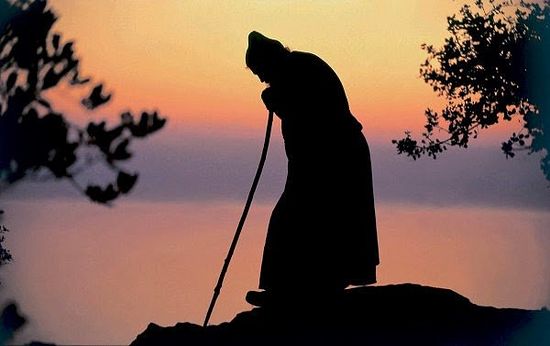Как научиться смирению и терпению
Как мне обрести смирение?
Старец Герман Ставровуниот
Тот, кто обладает смирением, подражает Самому Христу. Такой человек никогда не выходит из себя, никого не осуждает и не превозносится. Никогда не жаждет власти, избегает людской славы. Не ругается ни по какому поводу.
Не дерзит, когда разговаривает, и всегда выслушивает чужие советы. Избегает красивой одежды, внешний вид его прост и скромен.
Человек, безропотно выносящий все унижения и уничижения, получает большую пользу от этого. Поэтому не печалься, а, напротив, радуйся тому, что страдаешь. Тем самым ты обретаешь драгоценное смирение, которое спасает тебя.
“Смирился я, и спас Он меня” (Пс. 114:5). Следует всегда держать в памяти эти слова.
Не стоит огорчаться, когда тебя осуждают. Печаль по такому поводу означает, что ты имеешь тщеславие. Тот, кто желает спастись, должен полюбить людское презрение, ведь презрение несет смирение. А смирение освобождает человека от многих искушений.
Никогда не ревнуй, не завидуй, не стремись к славе, не ищи высоких должностей. Старайся всегда жить незаметно. Лучше пусть мир не знает тебя, ведь мир вводит в соблазн. Своими тщеславными речами и пустыми подстрекательствами он обманывает нас и наносит нам духовный вред.
Целью твоей должно быть обретение смирения. Быть ниже всех. Считать, что не делаешь ничего, достойного своего спасения. Надо молить Бога спасти тебя по своему благоутробию.
Смирение, послушание и пост рождают страх Божий, а страх Божий является началом истинной мудрости.
Все, что делаешь, делай со смирением, чтобы не пострадать от своих же благих дел. Не думай, что большое вознаграждение получает только тот, кто много трудится. Тот, кто обладает благим произволением и вместе с ним смирением, даже не имея возможности сделать многое и не будучи искусным в чем-либо, спасется.
Смирение достигается самопорицанием, то есть убежденностью в том, что по существу ты не совершаешь ничего хорошего. Горе тому, кто считает свои прегрешения незначительными. Он обязательно впадет в более тяжкий грех.
Человек, со смирением переносящий все направленное на него осуждение, приближается к совершенству. Им восхищаются даже Ангелы, ведь нет более труднодостижимой и более великой добродетелью, чем смирение.
Нищета, скорбь и презрение – это венцы для монаха. Когда монах безропотно терпит грубости, клевету и презрение, он с легкостью освобождается от дурных помыслов.
Достойно похвалы и осознание своей немощности перед Богом. Это есть знание самого себя. “Плачу и сокрушаюсь, – говорит святой Симеон Новый Богослов, – когда свет озаряет меня, и я вижу свою нищету и познаю, где нахожусь”. Когда человек познает свою духовную бедность и осознает, на каком в действительности уровне он находится, тогда в душе его просияет свет Христов, и он начнет плакать (рассказывая об этом, старец растрогался и сам заплакал).
Если другой человек назовет тебя эгоистом, пусть тебя это не печалит и не огорчает. Подумай лишь про себя: “Быть может, я таков и сам этого не понимаю”. Так или иначе, мы не должны зависеть от чужого мнения. Пусть каждый смотрит в свою совесть и руководствуется словами опытных и знающих друзей, а прежде всего, попросит прощения у своего духовника. И на основе всего этого строит свой духовный путь.
Ты пишешь, что тебе не удается бороться. Знаешь, почему так происходит? Потому что не обладаешь достаточным смирением. Ты полагаешь, что можешь достигнуть этого лишь своими силами. Но когда ты смиришься и скажешь: “Силою Христа, помощью Богородицы и молитвой старца я достигну желаемого”, будь уверен, что тебе все удастся.
Я, конечно, не имею такой молитвенной силы, но когда ты, смирившись, скажешь: “С молитвой старца я все смогу”, тогда, по твоему смирению, начнет действовать благодать Божья, и все получится.
Бог смотрит на “смиренных и сокрушенных” (Ис. 66:2). Но чтобы пришла кротость, спокойствие и смирение, необходим труд. Труд этот вознаграждается. Чтобы обрести смирение, как мне кажется, не нужны многочисленные поклоны и послушания, но прежде всего, помыслы твои должны спуститься вниз, к самой земле. Тогда у тебя не будет страха упасть, ведь ты уже внизу. А если ты и упадешь, находясь внизу, то не пострадаешь.
По моему мнению, хотя я, конечно, мало читаю и не делаю ничего выдающегося, смирение – это кратчайший путь к спасению человека. Авва Исаия говорит: “Научи язык свой просить прощения, и смирение придет к тебе”. Приучи себя говорить “Прости меня”, даже если поначалу это будет неосознанно, и постепенно ты привыкнешь не только произносить эти слова, но и чувствовать это в своем сердце.
Святые учат, что насколько велико будет твое благорасположение, когда ты просишь прощения – иными словами, смирение, – настолько же Бог и просветит другого, чтобы было достигнуто желанное перемирие между вами. Когда ты сокрушаешься и говоришь: “Я виноват, но не осознаю этого”, вскоре ты сможешь сказать: “Да, я действительно виновен”. И когда ты убеждаешь себя, что по-настоящему виноват, другой человек также поменяет свое к тебе отношение.
Настойчиво проси Бога наделить тебя даром самопорицания и смирения.
Молясь, проси Бога дать тебе умение видеть лишь свои прегрешения и не замечать грехи других. “Даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего”, – говорит святой Ефрем Сирин.
Смиренный человек считает себя низшим среди всех. И поэтому всех любит, всех прощает и, самое главное, никого не осуждает.
Перевод с новогреческого: редакция интернет-издания “Пемптусия”
20 советов для смирения
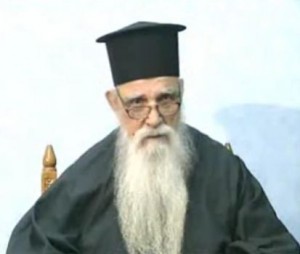 |
1. Забыли тебя? Молчит телефон? Ничего страшного. Не жалуйся.
2. Несправедливо обидели? Забудь.
3. Презирают тебя? Радуйся!
4. Обвиняют тебя? Не оправдывайся.
5. Издеваются над тобой? Не отвечай.
6. Ругают тебя? Храни молчание и молись.
7. Не дают тебе слово сказать? Перебивают? Не печалься.
8. Оскорбляют тебя? Не спорь.
9. Дети твои перекладывают на тебя их обязанности? Родственники, близкие делают тоже самое? Не протестуй.
10. Кричат на тебя? Храни спокойствие.
11. Крадут твое у тебя на глазах? Притворись слепым.
12. Смеются над тобой? Будь долготерпив.
13. Не слушают советов твоих? Не слушают советов твоих дети твои? Приклони колени свои и молись.
14. Раздражение между супругами? Ты виноват. И опять ты. А не другой.
15. Виноват? Проси прощения.
16. Не виноват? Опять проси прощения.
17. Здоров ты? Славь Господа.
18. Болен ты? Рак у тебя, мучаешься, страдаешь, больно тебе? Славь Господа.
19. Безработица, бедность в доме твоем? Постись. Бодрствуй. Молись.
20. За все и за всех молись. Много молись. Пост и молитва, потому как «сей же род изгоняется только постом и молитвой».
И если, братья мои, последуем этим советам, и, в первую очередь, я, то будьте уверены, что спасемся!
Перевод с новогреческого: редакция интернет-издания “Пемптусия”.
Секрет смирения
В отличие от детей, которые все время говорят о себе, взрослые люди умеют выглядеть смиренно благодаря усвоенным манерам. Но всё это бывает часто лишь внешним, сердце же наше занято собственным эго. Как добиться того, чтобы наши слова о смирении не были пустым звуком, – об этом размышления архимандрита Андрея (Конаноса).
Маленькие дети более спонтанны. Они говорят то, что чувствуют. И в начальной школе они всегда пишут: «Я, я… Я, мама и папа поехали отдыхать. У меня машинка!» А учительница исправляет их сочинения красной ручкой: «Не пиши постоянно «я, я…»
С другой стороны, мамы и папы, будучи уверены в том, что их ребенок – самый лучший, часто говорят: «Мой сын (или дочь) – лучше всех!» Они считают, что их дитя способнее всех и в классе, и в спортзале, а уж если ребенок занимается музыкой, то они непременно скажут: «Учительница по фортепиано отметила, что моя дочь – лучше всех! Это видно!»
Все родители так говорят. Они внушают своему ребенку с детских лет, что он – самый лучший, потому что, если не быть лучшим, то ведь легко можно стать и худшим! Так культивируется наш эгоизм.
Когда писатель Никос Казандакис приехал на гору Афон, он встретился там с одним подвижником – отцом Макарием (Спилеотом), который жил в пещере. В конце разговора отец Макарий сказал ему:
– Очнись, пока не поздно! Твой эгоизм огромен, твое «я» съест тебя!
Казандакис сказал ему в ответ:
– Не вини эго, отче! Эго отделило человека от животного.
А подвижник ответил:
– Ты ошибаешься. Эго отделило человека от Бога. Когда человек жил в раю, он был смиренным и был вместе с Богом. Бог любил его, и человек ощущал свое единство с Господом. Но как только человек сказал слово «Я!», он отделился от Бога и убежал от Него. Убежал из рая, убежал от самого себя, убежал от всех.
Только в одном случае мы можем (и должны) вспоминать о своем «я» – когда обвиняем себя. Тогда мы можем сказать: «Да, я виноват. Это я согрешил, я ошибся, я сделал это по собственному желанию!» В таком случае – да, но, к сожалению, это тот самый случай, когда мы не говорим «я».
Есть даже такой журнал – «Эго». И там психоаналитики пишут, что когда человек собирается на какое-нибудь мероприятие или вечеринку, то во время сборов (выбора парфюма и т.д.) в его душе ясно обозначается это слово – «я». Как я выгляжу, какое я произведу впечатление, что обо мне скажут, как оценят мой внешний вид, мою одежду, мой парфюм… Эго постоянно проявляется в современных развлечениях. Человек постоянно думает о своем «я», потому что поместил его в центр своей жизни.
Но таким образом мы сильно отдаляемся от Истины! Господь учит нас, что даже если человек выполняет все Его заповеди, он все равно должен говорить о себе как о непотребном рабе Божием. А мы часто начинаем считать себя великими и важными персонами в самом начале духовного пути, когда еще ничего не сделано.
Смирение – это не грусть, не тоска. Некоторые именно так понимают смирение – что это какая-то депрессия, когда человек чувствует себя слабым, обиженным, больным интровертом. Это не так. Смирение – это пребывание в Истине, в правде. Оно означает, что человек знает, кто он, знает свое место в этом мире, сознает свою немощь и благодарит Бога за все те благодеяния, которые Он оказывает ему, несмотря на его слабости. Смирение означает жизнь в истине, а не в том обмане, который создает вокруг нас современная жизнь.
Я слушал запись, на которой старец Иаков (Цаликис) читает заклинательные молитвы над одной женщиной, и там ясно слышался голос злого духа. Разумеется, таких вещей лучше не слушать, но это случилось, и вот что бес говорил старцу:
– Раз ты святой, почему ты не говоришь об этом? Скажи, что ты святой! Раз ты сам это знаешь и тебе удалось победить меня, скажи!
И было слышно, как старец Иаков смиренно и твердо ответил:
– Ты лжешь! Я прах и пепел, и покланяюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу – Троице Единосущней и Нераздельней!
Слышали бы вы, как кричал и вопил бес! И я подумал о том, что мы и так знаем: самая главная цель у диавола – сделать нас эгоистами. Он очень хочет, чтобы мы стали эгоистами и начали считать себя важными персонами – в то время как Господь хочет, чтобы мы были смиренными и являли это смирение своей жизнью.
Смирение – это когда человек принимает бесчестие с радостью, нахлынувшие скорби и трудности – с распростертыми объятиями, с мыслью о том, что таким образом душа излечивается от грехов и болезней. Когда приходят трудности, и мы вынуждены смириться, нужно помнить об этом – что Бог очищает нашу душу от прошлых или настоящих грехов, или предохраняет от того, что может случиться в будущем.
Одна женщина сделала аборт и поисповедалась в этом грехе. Но исповеди в таком случае недостаточно. Недостаточно рассказать о грехе. Нужно смириться и покаяться в содеянном.
Смирение – это действие, а не слова. Слова сладки на вкус. Душа может растрогаться и умилиться от слов, слова дарят ощущение сладости. А дело смирения на вкус очень горькое и едкое. Вот так: слушать о смирении – сладко, а выполнять – горько. И отец Георгий (Карслидис), известный духовник в Северной Греции, сказал этой женщине, которая сделала аборт (а она была очень красивой, богатой аристократкой):
– Вот что тебе надо сделать. Ты оденешься в лохмотья, никому не будешь говорить, кто ты, и отправишься в такое-то село. И целую неделю ты будешь просить там милостыню, никому не рассказывая о своем прошлом и настоящем. Даже имени своего не будешь называть. Это унижение поможет твоей душе смириться по-настоящему и очиститься от того зла, которое ты причинила другой душе, твоему ребенку, умершему, не успев появиться на свет.
Женщина все исполнила и после этого почувствовала то, чего не чувствовала во время исповеди, – облегчение. И исцелилась от греха.
Когда мы только встаем на путь смирения, то первое искушение, которое приходит к нам, – это тщеславие. Как только захочешь быть смиренным, в голове сразу начинают появляться тщеславные мысли. А что такое тщеславие? Это когда человек сделает доброе дело, и втайне начинает гордиться этим. Например, я пощусь, и тут мне приходит помысел, и я начинаю думать: «Молодец! Раз пощусь, то я не такой, как остальные! Я другой, я лучше!»
Или, например, можно скромно одеваться (что само по себе хорошо), но появляются тщеславные мысли на этот счет, и вслед за ними приходит высокомерие и самодовольство. И человек начинает думать: «Видишь, что творится вокруг? Мир погибает, все одеваются вызывающе, а ты – не такой. Молодец!» Это «Молодец!», которое мы произносим про себя после каждого доброго дела, и есть тщеславие. Это искушение, с которым мы будем сталкиваться всегда при совершении хорошего поступка, потому что каждый раз в нас что-то раздувается изнутри, и появляются мысли: «Молодец! Я сделал это втайне!» Но слово «Молодец!» сказано, и таким образом мы уже возгордились. Меньше всего это похоже на смирение.
Смирение подразумевает желание научиться. Когда у человека есть смирение, он не говорит: «Я все знаю!». Он задает вопросы – своему супругу, супруге или даже своему ребенку. В свое время это произвело впечатление на святого Иоанна Лествичника, когда в одном монастыре он увидел седовласых старцев, задающих вопросы священнику, который их исповедовал (а священнику было сорок лет). Это были старцы, монахи, закаленные в молитве и духовной брани, и они смиренно задавали вопросы человеку моложе себя.
И в наши дни такое бывает. На Афоне есть игумены, которые моложе многих монахов в монастыре. И такой игумен, несмотря на сан, идет к старшим и спрашивает у них совета, чтобы смириться, а не действовать по своему усмотрению. Это полезно для души.
Не будем говорить: «Я все знаю! Не указывай мне, что делать!» Ведь такое отношение передается всем членам семьи, всем окружающим.
Однако бывают случаи, когда христианин имеет право возмутиться относительно случившегося и таким образом продемонстрировать «эгоизм» без вреда для души. Что же это за случаи? Когда необходимо встать на защиту православной веры, мы не только можем, но и должны быть категоричными, строгими. И это будет не эгоизм, а исповедание веры. Когда святому Агафону предъявляли ложные обвинения, клеветали на него, он принимал все. А его называли грешником, лжецом, эгоистом… Но когда его обозвали еретиком, он ответил:
– Послушайте! Насчет всего того, что вы говорили мне до этого, у меня есть надежда исправиться. Но если я соглашусь с тем, что я еретик, то потеряю надежду на спасение! Если я еретик, то не могу спастись. Поэтому я не соглашаюсь с вашими словами.
Святые отцы так объясняют поведение Господа в иерусалимском Храме. Взяв бич и выгоняя продающих и покупающих, Он в тот момент не испытывал чувства гнева. Он ни на кого не злился и полностью контролировал Свое поведение и действия. Он перевернул скамейки, рассыпал деньги, но когда оказался перед клетками с голубями, которые предназначались для жертвоприношения, сказал: «Возьмите это отсюда!» (Ин. 2:16)
То есть если бы Христос потерял над Собой контроль, Он опрокинул бы и клетки с птицами. А так как голуби были ни в чем не виноваты, Он не причинил им вреда. Об этом говорят толкователи Евангелия. Следовательно, Господь не был в нервном состоянии. Он совершил все это не из эгоизма, а из любви – истинной любви к Закону Божиему, желая защитить Храм. И христианину, желающему стать смиренным, нельзя гневаться, нельзя спорить.
Один послушник старца Паисия (Святогорца) рассказывал:
– В каких бы грехах мы ни исповедовались отцу Паисию, он принимал нашу исповедь с большим смирением, любовью, человеколюбием, и говорил нам: «Ну вот, и ты – человек. Ничего, исправимся!» И никогда не ругался. Только в одном случае он огорчался очень сильно – когда мы начинали гордо спорить, выказывая тем самым свой эгоизм. Только тогда он говорил: «Сейчас, дитя мое, я не могу тебе помочь». Когда мы вели себя так, его душа страдала. Потому что в нашем поведении был эгоизм. Грех – свойство человека, а эгоизм – свойство диавола.
Смиренный человек легко исправляет свои ошибки. И ему легко помочь. Не знаю, задавали ли вы себе этот вопрос – почему исповедь нас не меняет. К сожалению, я вижу это по себе, да и по другим людям. Мы идем на исповедь, но после нее не особо исправляемся – по крайней мере, настолько, чтобы можно было сказать: «За последние пять лет я сильно изменился».
Почему же мы не меняемся? Потому что у нас нет смирения. Мы не даем другим людям сформировать наш характер. Например, человеку говорят: «С этого дня ты должен поститься!» И здесь необходимо смирение, чтобы ответить: «Да, я буду поститься, не буду есть мясо». А человек вместо этого говорит: «Постойте-ка, вы мне указываете, должен я поститься или нет? А еще – во сколько я должен вставать, чтобы идти в церковь, делать то или другое. » Эгоист не позволяет никому управлять собой, но тем не менее им управляют – его собственные страсти. А получить руководство и воспитание из рук Церкви он не может.
В одном из псалмов говорится, что «во смирении нашем вспомнил нас Господь…, и избавил нас от врагов наших» (Пс. 135:23-24). А святые отцы дополняют: Он избавил нас так и от страстей, нечистот и немощей. Когда Бог видит смиренного человека, Он избавляет его от всякого искушения. Смиренные люди не пытаются постичь Божественную Истину, а просто живут в Ней. У них простые мысли – они думают, как дети. А у человека, который путано выражает свои мысли, путано рассуждает, душа смиряется, как правило, с трудом.
Некоторые люди, приходя к старцу, начинают задавать ему странные вопросы. А ведь вопросы свидетельствуют о духовном развитии человека. И вот, например, когда к старцу Порфирию приходили смиренные люди, они задавали ему вопросы о спасении. А другие, чья душа была наполнена эгоизмом, спрашивали, покупать ли мотоцикл, выйдет ли дочь в ближайшее время замуж и т.д. Кто-то даже просил старца помолиться о выигрыше в лотерею. То есть люди спрашивали о том, что не было существенно для их спасения.
Вместо того, чтобы заглянуть в себя, эгоист смотрит на других. А еще он внимательно рассчитывает, когда придет Антихрист, какие у него будут цифры, и т.д., и т.п. – вместо того, чтобы следить за собственной душой. А о чем в древности люди спрашивали старцев? В Патерике часто рассказывается, как какой-нибудь человек приходит к старцу и говорит ему:
– Отче, скажи, как можно спастись! Скажи, что нужно сделать, чтобы спастись, полюбить Христа, победить свои немощи и страсти!
Эти вопросы мы должны задавать и себе, и своему духовнику, и святым людям (если появляется такая возможность). Эти вопросы не содержат простого любопытства, под которым скрывается эгоистическое желание заниматься чем угодно, но только не собой. То, о чем я говорю сейчас, не абстрактно.
Когда ученики спросили Христа: «Господи, неужели мало спасающихся?» (Лк.13:23), Он не ответил прямо на этот вопрос, а сказал: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лк.13:24). Помните? То есть у Него спросили одно, а Он ответил другое. Спросили, сколько людей спасется, а Он ответил: «Старайтесь подвизаться – вот что вас касается. А сколько людей спасется – это вас не касается». Таким образом Господь возвращает нас на землю, к смирению.
То же самое Он сказал и апостолу Петру. После Воскресения Господь сказал ему: «Иди за Мною» (Ин. 21:19). А он начал спрашивать Христа о св. Иоанне Богослове, что будет с ним («Господи! А он что?») (Ин. 21:21). Что ответил Господь? «Что тебе до того? Ты иди за Мною» (Ин. 21:22). То есть то, что будет с Иоанном, его жизненный путь, — это Мое и его дело. А ты смотри на себя. Помогая себе, ты поможешь и другим.
И это не эгоизм. Это та единственная ответственность, которую мы несем за развитие собственной души, чтобы обратить ее к покаянию и смирению. Как говорит святой Иоанн Лествичник, Господь не осудит нас за то, что мы не были богословами; или что не совершали чудес; или что не были проповедниками, обратившими к Богу целые племена и народы. Господь осудит нас за то, что в нас не было смирения, не было покаяния и сокрушения о своей душе.
Жизнь как школа смирения
Есть различные добродетели, которые христианину необходимо стяжать в течение своей земной жизни. Но нет ни одной добродетели, которая была бы настолько необходима человеку, как смирение. У преподобного Паисия Святогорца есть примерно такие слова: если Господь в момент твоей кончины застанет тебя во смирении, то Он будет говорить с тобой, а если застанет тебя не в смирении, то никакого разговора не получится. И преподобный Исаак Сирин учит: дела, в которых нет смирения, не спасают, а смирение может спасти и при отсутствии дел. И это лишь еще более утверждает нас в том, что смирение является тем самым драгоценным камнем, тем бриллиантом, который в венце, уготованном на Небесах любящему Бога, сияет ярче всех остальных камней.
Но речь пойдет не о красоте смирения, а о тех уроках, дающих возможность научиться ему, которые нам предлагает сама жизнь, а вернее, через нашу жизнь предлагает нам Сам Господь.
Нагими пришли – нагими уйдем
Когда человек – на исповеди или в какое-то другое время – говорит: «Батюшка, я понимаю, что смирение необходимо, но совсем не понимаю, как его приобрести, как ему научиться, так что у меня ничего в этом отношении не сдвигается с мертвой точки», я полагаю, что он в эту минуту лукавит с самим собой. Если бы кто-нибудь, к примеру, говорил, что не знает, как ему научиться летать, это было бы понятно. Люди не созданы для того, чтобы летать, как птицы, у нас нет для этого крыльев и необходимых функций, так что, действительно, можно оказаться в тупике, пытаясь приобрести подобный опыт. Но если говорить о смирении, оно для души человека, стремящегося к Богу, совершенно органично, а упражнения в нем предлагаются нам в повседневной жизни, как только мы начинаем в детстве осознавать себя.
А может быть, даже еще раньше? Лично я убежден, что самым первым уроком смирения для человека является его рождение. Каждый из нас рождается в этот мир, обретает дар бытия абсолютно не по своей воле. И прежде чем мы смиримся с чем-либо в этой жизни, нам нужно смириться с тем, что мы появились на свет. Смириться и научиться благодарить за это Бога, Который, воззвав нас от небытия к бытию, дал нам тем самым возможность жизни с Ним.
Совершенно не случайно и то, что человек рождается в этот мир беззащитным – гораздо более слабым и уязвимым, чем детеныши многих других живых существ. И об этом тоже обязательно стоит поразмышлять: когда-то любой из нас не был ни крепким, ни сильным, а был полностью зависим от тех, кто ухаживал за ним, и без их заботы погиб бы. Но по мере того, как человек взрослеет, у него появляется огромное количество навыков, которые определяют всю его жизнь и которые, как порою кажется ему самому, и есть он сам. А вместе с этими навыками, достижениями, положением в обществе появляется зачастую огромное самомнение. И тогда бывает особенно полезно вспомнить свое раннее детство: посмотреть фотографии, с которых смотрит на нас спеленатый младенец, и это – мы сами, и ощутить, что на самом деле это не мы нечто великое представляли и представляем собой, а Господь не оставлял и не оставляет нас Своим милосердием.
Школой смирения является для человека и школа как таковая, и вообще любая учеба. Мы начинаем что-то делать, и это получается вначале далеко не блестяще. И нам приходится смириться, что мы пока еще новички, а мастерами станем, при достаточном усердии, только через какое-то время. Лично для меня самое яркое воспоминание такого рода – это то, как я впервые в детстве увидел прописи. Я понимал, что люди писать учатся и у них это практически в ста процентах случаев получается, но при этом был убежден, что я все эти замысловатые закорючки совершенно точно никогда не научусь выводить. Сейчас об этом чудно вспоминать, но, тем не менее, это как-то тоже смиряет.
Но даже если человек уже достиг многого в социальном и профессиональном плане, если он уже в зрелых летах, Господь все равно не оставляет его Своим милосердием и дает возможность идти по спасительному пути смирения. Мы знаем, что, какого бы высокого положения человек ни добился, какого бы ранга он ни был руководителем, все равно найдется кто-то, кто является начальником над ним. И человек обязательно это ощущает: ему приходится перед кем-то преклонять голову, получать замечания и нарекания, зависеть от кого-то в принятии решений по рабочим вопросам, даже если ему зависеть совершенно не хочется. К тому же обычно чем старше становится любой из нас – и, соответственно, более главенствующим, независимым становится его положение в житейской и профессиональной сфере, – тем более входит в его жизнь другой смиряющий фактор – болезни. И если в отношениях с начальством у человека все-таки есть выбор и он готов бывает отказаться и от материального положения, и от должности, лишь бы избавиться от необходимости подчиняться, то с болезнью никоим образом договориться не получится. И если угодно Богу, чтобы мы смирились с состоянием болезни, то, как ни лечись, что ни делай, все равно до конца не вылечишься.
Жить с пониманием, что мы нагими в мир пришли и нагими уйдем, – очень важный шаг к смирению
Вообще верующий человек, христианин, который живет вдумчиво, не может не смиряться перед Богом, видя, как мало ему удается преуспеть – если вообще удается преуспеть – в труде над своей душой. А если брать еще глубже, смирять нас должно было бы ощущение того, что мы очень часто оказываемся совершенно чуждыми Богу. Мы познаём это, когда чувствуем внутреннюю сухость, когда ощущаем, что в нас нет ровным счетом никакой любви, нет сострадания, что наша душа бесплодна и пуста. И все это, как правило, следствие тщеславия и гордыни, которые закрывают наше сердце от действия Божественной благодати. Порою стоит человеку лишь на мгновение возгордиться – и он уже не чувствует Бога так, как чувствовал до того. И если подобное состояние в нас длится, это основание очень серьезно свою жизнь пересмотреть и найти, в чем мы настолько не смиренны, что Бог нам, по слову Священного Писания, противится (см.: Иак. 4: 6; 1 Пет. 5: 5).
Но, безусловно, самым сильным, самым мощным смиряющим фактором для человека является неизбежность конца земного пути. Настанет момент, когда, хотим мы того или не хотим, нам придется оставить все дела, оставить всё, что нам здесь было дорого, что казалось неотъемлемой частью нашей жизни, – и уйти туда, куда нас призывает Господь. Жить с пониманием того, что мы нагими в этот мир пришли и нагими уйдем, и не страшиться, не противиться, не закрываться от этой данности – значит, сделать очень важный шаг к смирению. Осознав, что, как бы мы ни держались за что-то в жизни, нам все равно это придется отпустить, человек наконец начинает давать Богу возможность себя спасать. А если человек всю свою жизнь отстаивает перед Богом право жить так, как он хочет, и не меняться, в конце жизни, когда всё это обнаружит себя чем-то ничтожным, он может оказаться в очень тяжелом внутреннем состоянии. И самое горькое в этом – совершенно ясное понимание того, что, если бы мы Богу уступили, если бы не вцепились мертвой хваткой в какие-то свои житейские слабости, какие-то элементы комфорта, какие-то ни к чему хорошему не ведущие отношения с людьми, Господь непременно дал бы нам взамен нечто совершенно иное – то, что на самом деле было бы величайшей драгоценностью. И в действительности необязательно, конечно, ждать смерти, чтобы она нас смирила окончательно, – можно просто обо всем этом чаще помышлять, и это будет смирять.
Не смирюсь ни за что!
Порой, когда в разговоре с кем-то заходит речь о смирении, я вспоминаю одну из историй про моего любимого Ходжу Насреддина. Однажды соседский бык растоптал на его земле посевы. Конечно, он погнался за безобразником, но тот убежал. И вот через некоторое время Ходжа Насреддин шел по улице и встретил соседа, который этого быка куда-то вел. Недолго думая, герой схватил дубину и начал быка ею охаживать. Сосед спрашивает: «Ты что, с ума сошел? Что ты делаешь?» А Ходжа говорит: «Ты не понимаешь, что я делаю, а он – понимает: видишь, как голову повесил!» Конечно, очень сомнительно, что бык, которого бьют по голове дубиной, понимает, в чем он провинился. Но удивительная вещь: животные под влиянием непреодолимых внешних факторов действительно смиряются. Даже дикие звери, к примеру, заболев, не нападают на человека, а позволяют себя лечить. Или если собаку закрыть в вольер, она не будет бесконечно на решетку этого вольера бросаться: ей надоест, и она уляжется на свое место. И только человек – это существо, которое зачастую не приводят к смирению никакие внешние факторы, которое способно сопротивляться очевидно необходимому даже тогда, когда ситуация уже доведена до абсурда.
Есть в рассказах митрополита Вениамина (Федченкова) такой эпизод: когда-то он, будучи еще иеромонахом, по благословению духовника взял к себе на попечение инвалида. Этот человек – звали его, кажется, Иван – в результате аварии на производстве лишился рук, то есть был в быту совершенно беспомощным. Но при этом он обладал тяжелейшим характером, который его положение нисколько не смягчило. И для митрополита Вениамина делить кров с таким подопечным было, безусловно, подвигом: он вел до этого спокойную жизнь преподавателя академии, а теперь его ожидали дома ругань, жалобы, претензии. Краткие периоды затишья наступали только тогда, когда он привозил этого человека к духовнику: в его присутствии бунтарь успокаивался. И мне очень запомнилось, как старец ласково говорил этому инвалиду: «Ну что же ты… Посмотри, как Господь тебя смиряет, а ты всё не смиряешься». И многие из нас, терпя обстояния, беды, думаю, могли бы сказать самим себе что-то подобное: мы уже изуродовали себя своими грехами так, что совершенно обездвижены, – и всё равно чего-то еще ругаемся, скандалим, требуем себе особых привилегий. А Господь тем временем ищет в нас хоть какой-то повод, чтобы проявить Свою милость. К слову, история с Иваном закончилась, по милости Божией и по смирению владыки Вениамина, вполне счастливо: этот человек неожиданно… женился. Именно так: встретил девушку, которая полюбила его и всю жизнь за ним ухаживала, – и с ней он уже не ругался: чудо встречи с любящей женщиной его смирило. Что же касается нас с вами, наверное, не стоит ожидать от Бога каких-то чудес – гораздо важнее не дожидаться тех радикальных обстоятельств, которые Господь порой посылает тем, кто смиряться не хочет никак.
«Стоять на своем» и «стоять на должном»
Порой человек, стараясь воспринимать жизнь как школу смирения, приходит к мысли, что суть всех этих уроков одна: никогда не настаивать на своем. Но это не совсем так. С одной стороны, весь опыт нашей жизни показывает, что часто мы проявляем упрямство, считая это единственно верным, – и в результате всё выходит вроде бы по-нашему, но из рук вон плохо. А иногда мы, напротив, уступаем – и в итоге, вопреки нашим ожиданиям, всё получается как минимум не хуже, чем если бы мы настояли на своем. И это кажется не столько житейской, сколько духовной закономерностью.
Иногда смирение заключается как раз в том, чтобы добиваться согласного со здравым смыслом
С другой стороны, смирение как духовное качество не означает безусловные уступки всем и во всём. Иногда смирение заключается как раз таки в том, чтобы добиваться согласного со здравым смыслом. И это чаще всего приходится делать в ситуациях, когда гораздо комфортнее для нас было бы уступить – не было бы конфликта, не было бы каких-то сложных для нас обстоятельств, но разум и совесть наши требуют, чтобы мы настаивали. И в этом случае нам приходится смиряться не с сутью, а с последствиями: с тем, что наши интересы могут пострадать или даже можем пострадать мы сами.
«Настаивать на своем» и «настаивать на должном» – по виду это практически одно и то же, но внутренняя разница между этими понятиями колоссальная. Два человека могут говорить об одинаковых вещах, но у одного это будет продиктовано упрямством и страстностью, а у другого – долгом и честностью. Весь вопрос в том, что в сердце человека.
Естественно, может возникать вопрос: а как различить «должное» и «свое»? Ответ здесь очень краток: только навык. Чтобы его приобрести, важно взять себе в привычку уступать и смиряться в том, что является для нас желаемым, но не является необходимым. Бывают такие ситуации: в них ничего принципиального не решается, просто мы хотим так, а другой человек хочет иначе. Если мы эти эпизоды в жизни замечаем и если мы каждый из них используем как упражнение, то в ситуации, когда коса нашла на камень по поводу чего-то, в жизни реально значимого, у нас достанет мудрости не нырять в этот спор с головой, как в омут, а попытаться отделить свое личное желание от того, что объективно. И вполне вероятно, что нам это удастся – и мы либо найдем в себе силы отказаться от того, на чем хотели бы настоять, если это наше субъективное убеждение, либо не найдем в себе этих сил, но будем четко понимать, что в нас действуют в этот момент гордость и самолюбие.
Учась смирению, важно помнить: главный труд здесь – не наш, главный труд здесь – Божий
А если не получается уступать даже в тех вещах, в которых уступить вполне можно? Здесь нужно вспомнить, что внутреннее возрастание в чем бы то ни было происходит поэтапно. Сначала человек учится по крайней мере, вспоминая об этой ситуации, понимать, что он мог смириться и ничего страшного не случилось бы. Потом он начинает видеть эту альтернативу непосредственно во время разговора, спора, хотя поступать может всё еще так, как прежде. Потом приходит первый – и, может быть, отнюдь не приятный – опыт отказа от чего-то желаемого, но не существенного в пользу другого человека. А потом всё уже становится гораздо легче. Единственное, в этом процессе никак нельзя останавливаться, потому что, как только ты в чем-то в лучшую сторону изменился и потом себя запускаешь, все это опять сыпется и все надо начинать сначала, к сожалению.
Но и в ситуациях, когда речь идет о здравом смысле, апеллировать к которому совершенно естественно и уместно, порою смиряться приходится. Здесь важно понимать: до какого-то момента настаивать на чем-то, пытаться изменить что-то – в нашей власти, в наших силах, а после – уже нет. Есть дверь, которая заперта и в которую мы тем не менее пробиться пытаемся, – а есть стена, которую нельзя пробить, можно только разбиться об нее самому. И нельзя себе позволять об эту стену убиться, на этой задаче сломаться, как нельзя и впоследствии, когда мы осознали, что не справились со стеной, себя за это внутренне съедать и уничтожать. Нужно с этим внутренне примириться и понять, что в этом тоже есть какой-то смысл, потому что без смысла Господь ничего в нашей жизни не делает. И к слову, в таких случаях опять-таки иногда случается чудо: смиряешься – и стены нет, она исчезла.
Желая учиться смирению в любых текущих обстоятельствах, очень важно помнить: главный труд здесь – не наш, главный труд здесь – Божий. Господь абсолютно всё для того, чтобы мы смирились, с нами в этой жизни делает, а наша обязанность – лишь откликаться на те призывы к смирению, которые постоянно со стороны Бога в наш адрес звучат. И понимать, что чем больше мы смиримся, чем в большей степени подклонимся под благое иго воли Божией, тем легче нам будет жить – тем радостнее, тем светлее наша жизнь станет. И самое главное, что станем мы не слабее, не бессильнее, а станем гораздо сильнее, гораздо мужественнее и намного больше пользы сможем принести тем, кто нас в жизни окружает.