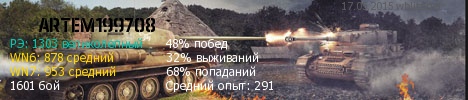тигр или пантера какой танк лучше
Все за сегодня
Политика
Экономика
Наука
Война и ВПК
Общество
ИноБлоги
Подкасты
Мультимедиа
Общество
Die Welt (Германия): почему у «Пантер» и «Тигров» были такие ненадежные двигатели
Ахиллесовой пятой новых танков, благодаря которым вермахт в 1943 году обрел преимущество над Т-34, были двигатели. Вместо неубиваемых дизельных моторов на них продолжали ставить ненадежные, хотя и мощные бензиновые агрегаты.
За несколько десятилетий до того, как дизельный мотор из-за скандалов вокруг выбросов микропыли и выхлопных газов стал пугалом для автомобилистов, многие связывали с ним большие надежды. Например, военные, искавшие для своих танков идеальный двигатель. Потому что бензиновые моторы хотя и отличались лучшим соотношением веса и мощности, но обладали одним досадным недостатком: они были менее надежными, могли взорваться под обстрелом и расходовали больше горючего.
До начала войны с Россией использование бензиновых двигателей внутреннего сгорания в германском танкостроении было чем-то само собой разумеющимся. Это было связано в первую очередь с большой потребностью в таких моторах при осуществлении программы перевооружения, которой Гитлер, начиная с 1935 года, хотел привести вермахт как можно быстрее в боеспособное состояние. Так как Версальский договор запрещал рейхсверу производство и использование танков и поэтому их секретно испытывали в Советском Союзе, первые серийные танки были в буквальном смысле тренировочными моделями.
Контекст
Лучший танк Второй мировой стал ответом на Т-34
Лучший из танков, на которых я воевал
Танки I и II воплощали в себе эмбриональное состояние этого вида вооружения, они были вооружены только пулеметами и легкими пушками и весили вполовину меньше танков западных союзников. По этой причине компактные бензиновые моторы были идеальными двигателями для танков, тем более что компания «Майбах» в Фридрихсхафене была единственным предприятием, которое было способно производить требуемые агрегаты большими сериями. Поэтому и средние танки III и IV были снабжены ими.
Тот факт, что эти танки, несмотря на их явное отставание по количеству, вооружению и броне от французских «Шар Б 1» и «Сомуа», в 1940 году всего за несколько недель разгромили тех в пух и прах, объясняется лишь умелой тактикой ведения боя. Танки вермахта действовали в составе соединений и их маневры в бою координировались по радио. Кроме того, они обладали высокой скоростью и большим запасом хода, что позволяло им действовать независимо от следовавших за ними пехотных соединений. Танковые дивизии были способны передвигаться быстро на большие расстояния, в то время как французские и британские танки, как и во время Первой мировой войны, использовались лишь для поддержки пехоты.
Но именно неожиданно быстрый и возведенный пропагандой в ранг «блицкрига» триумф на Западе стал причиной того, что немецкие танки не подверглись критическому анализу. Поэтому для войны с Советским Союзом всего лишь увеличили калибр пушек и количество средних танков, а легкие вывели из оборота. Дизельные моторы как были, так и остались в стадии разработки.
Перелом в мышлении произошел лишь после начала войны в России. Во-первых, вермахт столкнулся с советским танком Т-34, который в техническом отношении во многом превосходил немецкие танки. Во-вторых, зима 1941-42 года превратилась «в первый кризис танка вообще и танкового двигателя в частности», — пишет Пёльман. Потому что мощный и надежный дизельный двигатель танка Т-34, выполненный из легкого металла, «наилучшим образом проявил себе в условиях данного театра военных действий».
Не удивительно поэтому, что шок от Т-34 и провал «блицкрига» вызвали переполох в Управлении вооружений. Предлагалось даже копировать советские танки. Конкурент «Майбаха» компания «Даймлер-Бенц» воспользовался благоприятным моментом, чтобы привлечь внимание к своему дизельному двигателю МВ 507, который к тому времени как раз прошел успешные испытания. Но тут проявилась обратная сторона немецкой военной промышленности: в условиях дефицитной нацисткой экономики она была не в состоянии производить технические новинки большими партиями. «Короче говоря, у нас есть хороший мотор, мы его протестируем, но поставлять не сможем», — заявил директор танкового завода в Мариенфельде с обезоруживающей откровенностью.
Даже когда Гитлер, развивший в себе повышенный интерес к техническим деталям, стал выступать за использование дизельных моторов — в том числе и потому, что они расходовали меньше топлива, чем бензиновые двигатели — в структурных проблемах ничего не изменилось. Мало того, невольно диктатор подыграл Главному управлению сухопутных войск. Дело в том, что Гитлер увязал свое желание использовать дизель с требованием, чтобы мотор имел воздушное охлаждение. Но тут компания «Даймлер-Бенц» была бессильна. В тендере на производство среднего танка «Пантера V», срочные разработки которого начались в мае 1942 года, она осталась ни с чем.
Таким образом, и «Пантера», и тяжелый танк «Тигр VI» были оборудованы бензиновыми моторами «Майбах». Из-за того, что на производителей давили и требовали от них сделать мотор как можно быстрее пригодным для использования в боевых условиях, у него позже обнаружилось множество недостатков. Только что покинувшие завод экземпляры обоих типов, которые впервые в массовом порядке были использованы во время наступления на Курск в июле 1943 года, чаще останавливались на поле боя из-за дефектов двигателей, чем от вражеского огня.
Наконец даже генеральный инспектор танковых войск Хайнц Гудериан стал настаивать на принципиальном изменении системы. В своей памятной записке, которую цитирует Пёльман, он писал, что моторы «Майбах» — бесспорно великолепный образец немецкого моторостроения, Однако стремление добиться максимальной мощности в минимальном пространстве невольно привело к высокой скорости вращения, значительному расходу бензина, недостаточной надежности и очень плотной компоновке деталей.
По словам Гудериана, двигатель HL-230, устанавливаемый на «Пантерах» и «Тиграх», был «скаковой лошадью», а танковым войскам нужен был «буйвол», отличающийся абсолютной надежностью и простотой. Так как Гитлер и его министр вооружения Альберт Шпеер выступали за изменения системы, Главному управлению вооружения ничего не оставалось, как подчиниться.
Это удалось быстро сделать на легкой противотанковой САУ «Мардер III», которую производили на базе чешских моделей с пушкой калибра 75 миллиметров. Значительно более мощные и большие двигатели для «Пантер» и «Тигров» не помещались в имеющиеся корпуса. Намерение снабдить дизельным мотором от «Даймлер-Бенц» хотя бы усиленный «Тигр II» не могло быть осуществлено из-за другой проблемы, с которой во все большей степени стала сталкиваться немецкая промышленность. Во время воздушного налета были уничтожены конструктивные элементы этого мотора. Дизельные моторы были предусмотрены и для сверхтяжелых моделей, которые разрабатывались как «чудо-оружие» на колесах.
Однако в условиях тотального дефицита ресурсов во время войны о замене бензиновых моторов на дизельные не могло быть и речи — к такому выводу приходит Пёльман. Изготовление двигателей для танков с 1942 года было настолько сильно сконцентрировано на монополисте «Майбах», что смену системы уже нельзя было осуществить.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Пантера и Тигр
Содержание
Часто можно найти сравнения танков из разных стран, воевавших друг против друга или просто стоящих на вооружении в мирное время.
Но в этой статье будет два танка одной страны, более того, созданных примерно в одно время и никак не конкурирующих друг с другом.
Концепции танков
Средний по советской классификации и тяжелый по немецкой PzKpfw V Пантера и тяжелый PzKpfw VI Тигр. Оба танка создавались как противовес новому Т-34. Оба представители традиционного немецкого танкостроения, имеющие толстую лобовую броню, мощное орудие, большие размеры и переднее расположение трансмиссии. Оба считались очень опасным противником, в тоже время неся потери из-за ненадежности и неправильного применения. Эти танки кажутся в чем-то похожими, но на самом деле они абсолютно разные.
Сильные и слабые стороны
Давайте рассмотрим их основные различия, которые превратились в преимущества и недостатки отдельного танка:
Можно сделать вывод, что Пантера оказалась более удачным танком практически во всем, а боязнь Тигров связана больше с их редкостью. Оба танка были грозным противником для советских войск и для Т-34 в частности, ответом на который они и являлись. И тут кроется главная разница между ними. Тигр создавался как традиционный для немецких инженеров танк, со всеми привычными преимуществами в виде толстой брони и мощного орудия, и недостатками в виде прямых листов брони, огромных размеров и массы. Пантера же являлась переосмыслением танкостроения, попыткой извлечь все лучшее из Т-34 и немецких танков, что вылилось в наклонную броню, мощную, но не избыточного калибра пушку, хорошую подвижность.
В итоге PzKpfw VI Тигр оказался эволюцией традиционного танкостроения, которая практически зашла в тупик, исчерпав свои возможности, а вот PzKpfw V Пантера принесла на поле боя что-то новое, объединив в себе хорошую подвижность, броню и огневую мощь, став прообразом современных основных боевых танков.
Tiger или Panther.Какой лучше и чем?
Друзья! Пожалуйста подскажите что лучше,Тигр или Пантера? Не знаю что качать.И чем лучше.
Заранее спасибо!
Друзья! Пожалуйста подскажите что лучше,Тигр или Пантера? Не знаю что качать.И чем лучше.
Заранее спасибо!
Пантера, с нее можно и тигра 2 исследовать, да и мерс с пантерой норм.
Друзья! Пожалуйста подскажите что лучше,Тигр или Пантера? Не знаю что качать.И чем лучше.
Заранее спасибо!
Эти 2 танка только называются средним и тяжёлым. По факту это пт с башней. Только в редких случаях на них нужно играть как на ст и ехать в ближний бой. Лично мне больше понравился тигр. Так как на нем проще реализовать пушку. Советую брать обе машины. Но если будете брать только одну, то пантеру. С неё можно и до е50м и е100.
«Тигр» или «Пантера»: что вы знаете о танках
ВОПРОС 1 ИЗ 6
Неожиданный противник: танк «Клим Ворошилов»
Когда говорят о революционных танках Второй мировой войны, чаще всего вспоминают Т-34 или «Тигр». Однако в списки легендарных бронемашин можно смело записать модель «Клим Ворошилов» (КВ). Его появление на поле боя стало для вермахта крайне неприятным сюрпризом.
Незадолго до нападения Германии на СССР с новыми тяжелыми советскими танками столкнулись финны, противотанковая артиллерия которых не смогла причинить им серьезного урона.
По итогам сражений на Севере к плюсам танков было отнесено хорошее бронирование, но вместе с тем не оправдала себя двухбашенная компоновка Т-100 и СМК. Наиболее сбалансированным в боевом отношении был признан КВ, однако его вооружение второй пушкой калибра 45 мм, дополняющей основное 76,2-мм орудие, было также признано «излишеством». По итогам прорыва линии Маннергейма у КВ появился родной брат получивший название КВ-2 и вооруженный 152-мм гаубицей, предназначенной для уничтожения укреплений противника.
Несмотря на ряд очевидных плюсов, таких как 75-мм бронирование башни и передней части корпуса, «Клим Ворошилов» получился достаточно компромиссной машиной. Вес в 47 тонн (КВ-1) и 54 тонны (КВ-2) и относительно слабый шестисотсильный дизель В-2 делали оба танка неповоротливыми, да ещё и с запасом хода в полтораста километров. На хорошей дороге КВ-1 мог разгоняться до 36 км/ч, а КВ-2 до 30 км/ч. Пушка КВ-1 калибра 76,2 мм не давала ему никаких преимуществ перед Т-34, который был более маневренным, скоростным и стоил дешевле. А самое главное – «тридцатьчетверка» была надежнее.
Довоенная эксплуатация танков КВ выявила огромное количество проблем со многими ключевыми узлами: двигателем, трансмиссией, бортовыми фрикционами, ходовой частью, системой охлаждения. Доходило даже до того, что электромоторы механизма поворота 12-тонной башни не могли повернуть ее и сгорали, ручное вращение требовало огромных человеческих усилий.
Кировский завод ударными темпами старался исправлять недостатки, но танки встретили войну «сырыми». Особенно это относилось к КВ-2, который из-за своей массы мог действовать только в «тепличных» условиях: подойти к укреплениям противника на требуемое расстояние и открыть огонь или из засады в качестве подвижной огневой точки. На большее он не годился, и первые бои с вермахтом доказали «узкоспециальность» этого танка, который создавался для одной войны, а вести пришлось совсем другую. Значительная часть КВ-2 была потеряна в первые месяцы не от огня противника, а от поломок и невозможности эвакуации.
КВ-1 был более универсальным. И хотя он оказался менее подвижен, чем танки вермахта, последние не могли пробить его броню, в то время как КВ-1 уверенно поражал их в любую проекцию. Не могла справиться с танком и противотанковая артиллерия немцев, поэтому для борьбы с ними приходилось привлекать 88-мм зенитные пушки или 150-мм орудия. Хорошо известен бой одинокого КВ под Расейняям в июне 1941 года, когда всего один танк сдерживал несколько часов крупную группировку немцев, уничтожив несколько машин, противотанковых пушек, танков и 88-мм зенитку. В июле 1942 года еще один КВ в одиночку провел не менее впечатляющий бой под хутором Нижнемитякиным в Ростовской области. А сколько таких боев так и остались за кадром.
Советское танкостроение военного времени (особенно в 1941-1942 года) отличали две особенности: дефицит материалов и бесконечный поток инноваций. Планов производства никто не отменял, поэтому приходилось постоянно внедрять разнообразные ноу-хау, чтобы в тяжелейших условиях поддерживать запланированный уровень выпуска. С осени 1941 года основное производство КВ развернулось в Челябинске, где постоянно внедрялись разнообразные новшества, позволяющие удешевить производство и снизить его трудоемкость. С 1942 года КВ начал получать литые башни вместо сварных, изменилась технология производства бронекорпусов, катки стали тоже литыми, как и траки гусеницы. Все эти меры позволили снизить трудоемкость производства танка более чем в два раза. Посредственные характеристики и надежность КВ от этого лучше не стали, но фронт получал танки в требуемом объеме.
Поток нареканий и рекламаций из действующей армии не прекращался. В дело пришлось вмешаться самому Сталину, который 5 июня 1942 года в постановлении №187 предписал устранить главные недостатки танка: большой вес, проблемы с трансмиссией и систему охлаждения двигателя. В результате танк получил новую уменьшенную башню и толщину брони корпуса, облегченные гусеницы и опорные катки, новый главный фрикцион. Все это привело к снижению массы до 42,3 тонны и увеличению скорости до 43 км/ч. Танк получил название КВ-1С (скоростной) и в августе 1942 года был запущен в производство.
Немецкий зверинец под огнём
Рассмотрев производство катаной брони для немецких танков «Тигр», «Пантера» и «Тигр 2», а также процессы сборки их корпусов и башен, можно перейти и к самому главному — оценке их стойкости под огнём советской, британской и американской противотанковой и танковой артиллерии.
Первые «Тигры»
Появление под Ленинградом немецких тяжёлых танков сразу же привело к захвату первых двух трофеев. С 25 по 30 апреля 1943 года на Научно-испытательном бронетанковом полигоне Главного бронетанкового управления Красной армии (НИБТ Полигон ГБТУ КА проводились испытания обстрелом одного из двух захваченных «Тигров» — танка с бортовым №121 из 502-го тяжёлого танкового батальона. В испытаниях брони немецкой новинки участвовали практически все имеющиеся противотанковые средства, от тяжёлой полевой артиллерии до противотанковых гранат и авиационной пушки:
Были получены следующие результаты:
Танковая 45-мм пушка образца 1937 года, установленная на лёгком танке Т-70, подкалиберным снарядом с дистанции 350 метров пробила нижний бортовой лист корпуса толщиной 62 мм. С дистанции 200 метров один из двух снарядов пробил и верхний бортовой лист, а второй оставил вмятину глубиной 40 мм.
Противотанковая 45-мм пушка образца 1942 года с дистанции 100 метров бортовой лист бронебойными снарядом не пробила, оставив вмятину глубиной 30 мм. Подкалиберные же снаряды пробили нижний бортовой лист с дистанции 500 метров, а верхний бортовой лист и борт башни — с дистанции 350 метров. Уже в ходе обстрела из этой пушки стали появляться трещины в броне и отколы.
57-мм противотанковая пушка ЗиС-2 смогла пробить 82-мм борт корпуса с дистанции 1000 метров одним из двух снарядов. Попадания в лобовые листы корпуса с дистанции 500 метров не дали пробитий: результатами стали вмятины глубиной от 20 до 65 мм, но было зафиксировано разрушение сварных швов.
57-мм английская противотанковая пушка пробила 82-мм борт корпуса с 1000 метров, а борт башни — с 800 метров. Два снаряда, выпущенные в борт башни с 1000 метров, пробитий не дали.
Из 76-мм зенитной пушки одно из трёх попаданий в борт башни с дистанции 500 метров дало пробоину в верхней кромке листа, которая сопровождалась разрушением сварного шва с крышей на длине 1680 мм, остальные попадания дали только вмятины.
Из 107-мм пушки сделали семь выстрелов без попаданий, а из 122-мм гаубицы и 152-мм пушки-гаубицы зачётных попаданий добиться не удалось.
Стрельба из 17-фунтовой пушки велась бронебойными снарядами по нижнему лобовому листу толщиной 102 мм с курсового угла 0°. Из пяти попаданий четыре привели к выходу пробок, при этом снаряды раскалывались и частично проникали в танк, а пятое дало выпучину с надрывом. Ударные скорости снарядов находились в диапазоне от 1818 до 2023 футов/с. Попадания из 6-фунтовой пушки по этой же детали закончились выпучиной и вмятиной.
Из восьми попаданий 75-мм бронебойных снарядов в 82-мм бортовой лист по нормали пять дали выпучины (одну с надрывом), два выбили с тыльной стороны пробки, а последнее было признано незачётным.
6-фунтовое орудие при стрельбе бронебойными снарядами верхнюю лобовую плиту пробить не смогло. Ударные скорости составляли от 220 до 2403 футов/с. Было произведено восемь выстрелов. Два попадания оказались незачётными, одно пришлось на место, где лобовая плита стыковалась с крышей корпуса, и вызвало трещину в 6 дюймов. Одно попадание закончилось выходом пробки диаметром 3 дюйма, а остальные привели к выпучинам с тыльной стороны листа, три из которых привели к надрывам брони.
Наименее стойкой оказалась кормовая 82-мм плита. Бронебойные снаряды 6-фунтового орудия пробили её в пяти случаях из семи, при этом ударные скорости составили от 1633 до 1990 футов/с.
По итогам испытаний были сделаны следующие выводы. При более высокой твёрдости, чем у англичан, немецкая броня обладала схожей бронестойкостью, однако качество брони заметно отличалось от плиты к плите, что выражалась в склонности к хрупким разрушениям. В ходе испытаний две плиты разрушились. Дистанцию поражения верхней лобовой плиты бронебойными снарядами из 6-фунтового орудия определили равной 650 ярдам.
При стрельбе по бортам бронебойные снаряды пробили броню с дистанции на 350 ярдов больше, чем снаряды с бронебойным наконечником. Нижняя лобовая плита из этого орудия не пробивалась. Поражение нижней лобовой плиты из 17-фунтового орудия было возможно с 1800 ярдов. Вместе с тем, англичан не удовлетворило качество бронебойных снарядов к 17-фунтовой пушке. В этом же отчёте упоминалась и «Пантера» — видимо, информацию о появлении нового танка получили из СССР.
Новый раздражитель
Начавшаяся летом 1943 года операция «Цитадель» принесла ещё более неприятные сюрпризы. В массовых количествах появился новый средний танк «Пантера» и, что самое главное, самоходное орудие «Фердинанд». Именно преодоление бронезащиты этих машин станет главным ориентиром при разработке боеприпасов и орудий в СССР на ближайшее время, а при разработке брони собственных танков будет требоваться защита от орудий KwK 42 L/70 и PaK 43 L/71. Лобовая часть корпуса «Пантеры» была защищена гораздо сильнее, чем у всех остальных танков воюющих стран и оставалась таковой до появления ИС-2 со спрямлённой лобовой деталью и «Тигра 2». В то же время, бронезащита башни оказалась заметно ниже, а борта корпуса и башни были защищены на уровне остальных средних танков.
Трофеи боёв под Курском доставили на НИБТ Полигон ГБТУ КА, где в период с 1 по 14 декабря 1943 года прошли испытания обстрелом танков «Пантера» и штурмового орудия «Фердинанд». Испытания производились следующими противотанковыми средствами:
Из английской 57-мм танковой пушки сделали три выстрела бронебойно-трассирующими снарядами с дистанций 900 и 1100 метров в борт подкрылка, борт корпуса и борт башни. Все три попадания закончились сквозными пробитиями.
По итогам испытаний стало очевидно, что решение использовать для танков «ИС» 122-мм орудие было оправданным и своевременным: только его применение могло обеспечить преимущество над новым немецким танком.
Тяжёлые кошки Нормандии
Несмотря на то, что с «Пантерами» союзники столкнулись уже в Италии, высадка во Франции и последующее наступление привели к встречам с «Пантерами» и «Тиграми» в гораздо больших количествах. В результате к немецким танкам пришлось отнестись максимально серьёзно.
Сказать, что это произвело эффект — значит, не сказать ничего. Столкнувшись с массовым применением немцами тяжёлой бронетехники, американцы поняли, что не имеют надёжных средств борьбы с ней. Начались работы по массовой установке на «Шерманы» длинноствольных 76-мм орудий, резко вырос заказ на производство самоходных установок M36, вооружённых 90-мм орудием, была начата разработка новых боеприпасов с улучшенными характеристиками. Наконец, рассматривался даже вариант принятия на вооружение 17-фунтовой английской пушки.
Именно сравнению 76-мм пушки M1 и 17-фунтовой английской танковой пушки были посвящены полевые испытания, проводимые 12-й группой армий США 20 и 21 августа 1944 года в Изиньи-сюр-Мер во Франции. Огонь вёлся 76-мм бронебойными снарядами M62, 76-мм подкалиберными снарядами (HVAP) T4, 17-фунтовыми бронебойными снарядами с бронебойным наконечником и 17-фунтовыми подкалиберными снарядами с отделяемым поддоном.
В проведённых американцами испытаниях действительно интересными являются два момента. 17-фунтовые подкалиберные снаряды с отделяемым поддоном имели крайне низкую точность: из 42 снарядов, выпущенных в верхнюю лобовую деталь, которая являлась целью испытаний, попало только 24. При стрельбе с 800 ярдов из семи выпущенных снарядов в точку прицеливания попал один, три поразили другие части танка, а остальные три вовсе прошли мимо.
Второй момент — неравномерное качество брони, ставшее визитной карточкой немецкого танкостроения. Обстреливалось три танка, при этом у двух из них лобовая плита разрушилась после нескольких попаданий, а у третьего выдержала 30 попаданий без трещин и проломов. Именно по обстрелу этой машины и были сделаны оценки бронепробиваемости.
Общим же итогом являлось то, что 17-фунтовое орудие не впечатлило американцев, и вопрос уверенного поражения «Пантер» в лоб остался открытым до появления в массовых количествах самоходных орудий M36 и тяжёлых танков M26. Отдельные работы развернулись над 90-мм боеприпасами: в январе 1945 года появились подкалиберные снаряды T30E16, пробивающие верхнюю лобовую деталь «Пантеры» на дистанции 800 ярдов, и бронебойные снаряды T33, пробивающие аналогичную деталь с 1100 ярдов.
Стоит отметить, что противотанковое вооружение англичан также не стояло на месте: появились модификации 6-фунтового орудия Mk.IV (противотанковая пушка) и Mk.V с увеличенной длинной ствола, а также новые типы снарядов: бронебойные с бронебойным наконечником и подкалиберные с отделяющимся поддоном.
В январе 1945 года англичане провели крупные испытания брони «Пантер», захваченных во Франции, которым подверглись три танка модификаций Ausf. A и Ausf. G. Программа включала в себя четыре этапа:
Борта башни были пробиты бронебойными снарядами с бронебойными наконечниками при ударных скоростях 2205 и 2243 фута/с, причём один из снарядов пробил борт, прошёл через всё боевое отделение, пробил противопожарную перегородку и, попав в топливный бак, вызвал возгорание. Дистанцию поражения подкалиберными снарядами при таких условиях оценили в более чем 2500 ярдов.
Стрельба по подкрылку при угле встречи 50° показала, что бронебойные снаряды с бронебойным колпачком 6-фунтовой пушки пробьют его с дистанции 1020 ярдов. Попадания с более дальних дистанций вызывали трещины в броне и разрушения сварных швов.
Попадания подкалиберных снарядов 6-фунтовой пушки в нижнюю лобовую деталь со скоростями 3330 и 3635 футов/с привели к вмятине и пробитию. Предельная дистанция пробития была определена как 700 ярдов. Бронебойные снаряды 17-фунтового орудия поражали нижнюю лобовую деталь с 2200 ярдов.
Из 17-фунтовой пушки по лобовой плите были произведены пять выстрелов наиболее мощным боеприпасом — подкалиберным снарядом с отделяемым поддоном. Предельную дистанцию пробития определили в 1500 ярдов. При попаданиях наблюдалось растрескивание плиты. При обстреле бронебойными снарядами с бронебойными наконечниками наблюдались рикошеты, сопровождаемые проломами в броне.
Разрыв 75-мм осколочно-фугасного снаряда на командирской башенке в 4 дюймах над крышей башни привёл к растрескиванию крыши и попаданию пламени внутрь башни. Разрыв на люке в кормовом листе башни привёл к незначительному ущербу внутри башни и поражению осколками переднего радиатора через решётку воздухозаборника.
По итогам испытаний уже традиционно отмечалась хрупкость брони. В качестве положительного момента указывалось использование шиповых соединений, которые в ряде случаев позволяли танку не выходить из строя даже в случае разрушения сварных швов. Отдельно стоит упомянуть впечатляющие результаты, достигнутые при использовании подкалиберных снарядов с отделяемым поддоном. Полученные дистанции поражения брони получены путём пересчёта скорости снаряда, которая достигалась приведением порохового заряда к необходимому уровню. Стрельба проводилась с дистанции 280 футов.
В реальности всё было гораздо сложнее. На испытаниях танков «Шерман Файрфлай» (отчёты WO 291/1263 и WO 165/135 от 22 сентября) определялась вероятность попадания подкалиберным снарядом с отделяемым поддоном из 17-фунтового орудия по цели размерами 5×2 фута, имитирующей башню «Пантеры». Если на 400 ярдах вероятность попадания составляла 56,6%, то на 800 ярдах она падала до 21,9%, с 1000 ярдов в цель попало только 14,9% снарядов, а с 1500 ярдов — лишь 7,1%. Использование бронебойных снарядов и снарядов с бронебойным колпачком давало гораздо большую вероятность поражения немецких танков.
Стрельба подкалиберными снарядами из 6-фунтового орудия по нижней лобовой детали толщиной 102 мм привела к пробитию при ударной скорости 3530 футов/с. Ещё одно пробитие привело к серьёзным повреждениям манекена механика-водителя. При скорости 3298 футов/с плита не была поражена. Попадание подкалиберного снаряда в плиту, усиленную запасными траками от «Пантеры», не нанесло броне каких-либо значимых повреждений. Было выдвинуто предположение, что поражение брони, усиленной траками, таким снарядом возможно только с коротких дистанций. В целом дистанцию поражения оценили в 1000 ярдов.
Три бронебойных снаряда с бронебойными наконечниками, выпущенные по нормали в нижнюю лобовую плиту толщиной 102 мм со скоростями 1865, 2089 и 2131 фут/с, вызвали разрушение соединений бронелистов. Был сделан вывод, что поражение этих деталей из 17-фунтового орудия возможно с больших дистанций.
В случае с обстрелом этого «Тигра» хрупкость брони была выявлена только для одной плиты борта корпуса и его крыши. Все остальные плиты при испытаниях оценивались испытателями как аналогичные по характеристикам британской броне. Отдельно отмечалось, что разрушение сварных швов вызвано продолжительными испытаниями и маловероятно при единичных попаданиях. В целом, стойкость брони конкретного танка признавалась «крайне удовлетворительной».
Решение проблемы
На советско-германском фронте немецкие танки столкнулись с более радикальными переменами. Осенью 1943 года на полях сражений появились СУ-85, а в 1944 году то же самое 85-мм орудие появилось на Т-34-85. Кроме того, в войсках появились ленд-лизовские американские самоходные артиллерийские установки M10 и «Шерманы» с 76-мм орудием. Хотя эти пушки и не давали советским танкам и самоходкам преимущества над «Тиграми» и «Пантерами», они уже могли поражать их в лобовую проекцию.
Для оценки возможности этих орудий обратимся к отчёту по сравнительным испытаниям бронебойных снарядов различных артиллерийских систем, проводимым с 21 мая по 6 июня 1945 года на НИБТ Полигоне ГБТУ КА. В числе орудий в испытаниях участвовали 76-мм пушка M7 с остроголовыми бронебойными снарядами с бронебойным и баллистическим наконечниками и 85-мм танковая пушка С-53 с остроголовыми бронебойными снарядами.
Лобовые листы корпуса «Пантеры» для этих орудий были неуязвимыми, и поразить немецкий танк можно было только в лоб башни. Требовалось более мощное вооружение.
Появление у КА 100-мм буксируемых и самоходных орудий и, особенно, 122-мм танковых и самоходных орудий полностью решило проблему поражения «Тигров». Их броня пробивалась со всех дистанций действительного огня. Так как «Пантера» обладала заметно более мощным бронированием лба корпуса, испытания обстрелом из новых орудий проводились именно на нём. В августе 1944 года на НИБТ Полигоне ГБТУ КА прошли обстрелы верхней лобовой детали «Пантер» модификаций Ausf. D и Ausf. A из 100-мм полевой пушки БС-3 остроголовыми бронебойными снарядами, а из 122-мм танковой пушки Д-25 — остроголовыми и тупоголовыми снарядами с баллистическими наконечниками. Стрельбы проводились по танкам, расположенным на реальных дистанциях.
При стрельбе с 2000 метров орудие БС-3 ожидаемо броню не пробило, из пяти попаданий остроголовыми 122-мм снарядами три привело к сквозным пробитиям. Все пять тупоголовых снарядов пробили броню.
В ходе обстрелов проявилась уже отмечавшаяся ранее неоднородность характеристик брони. Часть лобовых листов при попаданиях получала только вмятины без каких-либо хрупких разрушений, другая часть деталей в результате попаданий давала трещины, отколы и выход пробок. Также с дистанции 1500 метров из 100-мм пушки были получены попадания в маску орудия. Все они закончились пробитием. Попадание 122-мм снаряда в верхнюю кромку лобового листа привело к пролому крыши.
Королевская охота
В августе 1944 года на советско-германском фронте были применены танки «Тигр 2» — самые тяжёлые и самые бронированные за годы Второй мировой войны. Дебют оказался провальным, и два танка отправились в СССР на испытания. Однако ещё до поступления на полигон и получения данных по новому танку стали поступать донесения непосредственно из войск. 13 сентября 1944 года командир 1024-го самоходного артполка подполковник С.И. Баранов отправил командующему БТиМВ КА маршалу бронетанковых войск Я.Н. Федоренко письмо с данными по обстрелу подбитого «Тигра 2» (ЦАМО РФ, фонд ГАБТУ КА):
«Представляю фотоснимки подбитого нашими частями нового немецкого танка «Королевский Тигр», стоявшего на юго-западной окраине д. Оглендув, что в 4,5 км западнее г. Сташув.
По указанному танку ряд частей производили опытную стрельбу: 155-я отд. арт. бригада, 37-я оиптабр и из 1024-й самоходного артиллерийского полка была выделена одна самоходная установка СУ-85.
Стрельба из пушки 76 мм и ниже калибром показала: с дистанции от 400 до 150 метров бронебойным снарядом они бортовую броню и башню танка не пробивают, за исключением подкалиберного снаряда, который бортовую броню и башню пробивает насквозь с дистанции 150 метров.
В лобовую часть из СУ-85 с дистанции 200 метров стреляли тремя снарядами. Все три снаряда дали рикошет.
Из 152-мм пушки с дистанции 250 метров стреляли семью снарядами. Из них попали в лобовую часть двумя снарядами. Один дал рикошет, другой попал в шаровую установку. Последний продавил шаровую установку.
Приводились данные по обстрелу из 75-мм пушки (тип орудия не указан), 85-мм зенитной пушки, 122-мм гаубицы образца 1938 года, 45-мм пушки, 57-мм противотанковой пушки ЗиС-2 и 76-мм пушки. Лобовую броню не пробило ни одно орудие. Борта были пробиты 45-мм подкалиберными снарядами с дистанции 300 метров; к сожалению, не указывалось, куда именно пришлись попадания — в борт корпуса, подкрылка или башни. 57-мм пушка бронебойным и подкалиберным снарядами пробила броню с дистанции 350 метров. Подкалиберные снаряды 76-мм орудия пробили борт корпуса — судя по описанию, с дистанции 400 метров.
Нужно отметить, что появление нового танка не произвело на советских артиллеристов и танкистов ошеломляющего впечатления. С одной стороны, бронирование танка в целом было сходно с применённым на появившемся на полях сражений годом ранее «Фердинанде», а вооружение и вовсе было аналогичным. С другой стороны, в войска уже массово поступали танки ИС-2 с самым мощным серийным танковым орудием войны и самоходные установки ИСУ-152, которые также могли бороться с немецкой новинкой. В то же время, нельзя сказать, что применение «Тигра 2» осталось незамеченным. В том же письме подполковника Баранова перечислялись методы борьбы с новыми немецкими танками:
«На вероятных танкоопасных направлениях из отдельных орудий, танков и самоходных орудий организовать засады с расчётом поражения танка типа «Тигр-Б» во фланг с дистанции 400–600 метров.
Боевые порядки противотанковой артиллерии и противотанковых районов усиливать 122-мм и 152-мм пушками.
В районах сосредоточения, исходных и выжидательных позиций танков противника, а также в момент атаки воздействовать на них мощным массированным огнём всех артиллерийских средств, включая 200-мм миномёты.
С целью предотвращения просачивания автоматчиков в противотанковые районы и на позиции противотанковой артиллерии — окаймлять их заградительным огнём.
На подступах к противотанковым районам и в промежутки между ними ставить сплошные минные заграждения».
Тем временем, трофейные танки прибыли на НИБТ Полигон ГБТУ КА, где с 5 по 11 ноября 1944 года прошли испытания танка «Тигр 2» обстрелом из следующих орудий:
Лобовые детали танка испытывали обстрелом с дистанции 100 метров с применением штатных и приведённых зарядов (далее будет указана определённая действительная дистанция). Первым произвели выстрел осколочно-фугасным 122-мм снарядом со 100 метров. В результате попадания лопнул сварной шов шаровой установки курсового пулемёта на 3/4 длины, лопнули швы между бортами и верхним лобовым листом, а борт корпуса отошёл на 5 мм. Попавшее через шаровую установку пламя вызвало внутри корпуса пожар. Попадание 122-мм тупоголового бронебойного снаряда с 2700 метров не вызвало никаких последствий. Попадание с 500 метров оставило вмятину глубиной 100 мм и вызвало откол брони с тыльной стороны размерами 160×170 мм. При этом лопнули сварные швы между лобовым листом и крышей, были разрушены швы между лобовыми листами, а также шов между левым бортом и днищем подкрылка. Смотровой прибор механика-водителя был сорван.
По нижней лобовой детали было выпущено два 122-мм бронебойных тупоголовых снаряда. Первый с дистанции 2500 метров оставил вмятину глубиной 60 мм и разрушил правый шип, второй с дистанции 600 метров попал в стык лобовых листов и оставил вмятину глубиной 35 мм.
Попадание 100-мм снаряда с дистанции 1500 метров в нижний лобовой лист привело к образованию выпучины с надрывом и двух трещин длиной 250 и 130 мм. Затем последовали три незачётных выстрела, а вот четвёртый, произведённый со 100 метров, разрушил деталь по имеющимся после предыдущих попаданий трещинам. После этого испытатели выстрелили по одному разу из 88-мм немецкой и 85-мм отечественной пушек, а попадание 75-мм бронебойного снаряда из пушки KwK 42 L/70 привело к разрушению детали.
Итогами испытаний посчитали возможность пробития лобовых листов корпуса при попаданиях 122-мм снарядов в кромки на дистанции до 600 метров и 100-мм орудиями БС-3 на дистанции до 500 метров. Дистанцию поражения башни определили в 1500 метров. Снова стоит отметить, что башню обстреливали со снятой маской орудия. Нарушение режимов термообработки и недостаточный контроль качества во всей красе проявили себя на бронеплитах большой толщины: попадания снарядов крупного калибра вызвали большое количество хрупких изломов и привели к разрушению деталей ещё до конца программы испытаний.
Обстрел бортов корпуса вёлся в два этапа. Стоит отметить, что конструкция уже была ослаблена разрушением лобовой брони. Так как программа испытаний была весьма обширной, то уместным будет привести выдержки из итогового отчёта:
«4. Бортовые нижние детали корпуса. Толщина брони 80 мм. Конструктивный угол 0°.
Испытания бортовых деталей начаты были в бронетире с дистанции 100 метров приведёнными зарядами и заканчивались с действительных дистанций штатными снарядами. Данные позволяют отметить, что:
1) для 76-мм бронебойных отечественных снарядов борта являются неуязвимыми, так как не пробиваются ими с дистанции 100 метров вследствие низкого качества бронебойных отечественных снарядов этого калибра;
2) эффективными средствами поражения бортовых деталей являются:
Повышенная хрупкость, выявленная на лобовых деталях корпуса, свойственна и бортовым деталям. Сварные швы, соединяющие борта с днищем подкрылка и днище подкрылка с подкрылком, разрушаются с первых же выстрелов — как под действием осколочно-фугасных снарядов, так и под действием бронебойных».
«5. Бортовые верхние детали корпуса (подкрылки). Толщина брони 80 мм. Конструктивный угол 25°.
Условия испытаний: с действительных дистанций штатными зарядами.
Результаты испытания 85-мм отечественным снарядом получились неоднородными. На левом подкрылке при трёх попаданиях с дистанции 1500 метров получены три различных поражения: пролом, пробоина и вмятина. На правом же подкрылке при обстреле с дистанций 1500 и 1000 метров получены только чистые вмятины, и лишь с дистанции 800 метров — пробоина.
Таким образом, по противоснарядной стойкости подкрылки являются (по пробитию в пределах дистанции 800–1500 метров) неоднородными, что свидетельствует об их неравнопрочности, которая могла явиться как следствием качества металла, так и следствием качества термообработки. Раскол правого подкрылка, пролом и трещины левого свидетельствуют о хрупкости этих деталей, и в этом отношении они не являются исключением из всех испытанных деталей».
«6. Бортовые детали башни. Толщина брони 80 мм. Конструктивный угол 20°.
Условия испытаний левого и правого бортов башни были различными. Правый борт башни испытывался в бронетире, и только два последних выстрела были сделаны с действительных дистанций. В результате обстрела бортовых листов башни установлено:
а) борта башни пробиваются: американскими бронебойными снарядами калибра 76 мм — с действительных дистанций 1500 метров, немецкими бронебойными снарядами калибра 75 мм — с дистанции 2300 метров (дистанция приведённая);
б) для отечественных снарядов калибра 76 мм борта башни неуязвимы;
К сожалению, данных по обстрелу других танков этого типа нет, кроме послевоенных испытаний захваченных американцами в Касселе корпусов танков «Тигр 2». Очевидно лишь, что особенности производства брони в Германии не позволили полноценно использовать возможности самого мощного бронирования танков Второй мировой войны.
Стойкость любого из танков «зверинца» к артиллерийскому огню во многом определялась тем, повезло ли конкретной машине получить броню, соответствующую техническим условиям, или нет. В истории брони немецкой техники неистребим почти мифический ореол неуязвимости, в большей степени созданный мемуарами и немыслимой популяризацией. Вместе с тем, не стоит недооценивать, насколько серьёзным противником являлись эти машины.
Вместо постскриптума
Говоря о том, что особенности производства брони в Германии снижали бронестойкость танков, не следует забывать, что возможности противотанковых и танковых орудий также падали с ухудшением качества снарядов. Низкая механическая прочность отечественных снарядов практически всех калибров отмечается чуть ли не во всех испытаниях обстрелом. Где-то удалось частично решить проблему, — например, с 76-мм подкалиберными снарядами, которые с небольших дистанций стали пробивать 82-мм броню, — но в целом картина рисовалась безрадостная. Работы по совершенствованию боеприпасов велись, но, к сожалению, были окончены лишь после войны. Для понимания возможностей советских орудий вернёмся к вышеупомянутому отчёту по сравнительным испытаниям отечественных, импортных и трофейных бронебойных снарядов от июня 1945 года.
Штатные бронебойные тупоголовые снаряды с баллистическим наконечником 76-мм орудия ЗиС-3 не пробили бортовую броню «Тигра» толщиной 82 мм с 200 метров, поэтому было сделано заключение, что пробитие исключается с любой дистанции. Бортовые листы «Пантеры» при курсовом угле цели 40° поражались с дистанции более 1000 метров. При выстрелах опытным бронебойным остроголовым снарядом с баллистическим наконечником из стали 60×30 82-мм борт «Тигра» пробивался до дистанции 1000 метров по нормали, при курсовом угле цели 60° — на дистанциях до 700 метров.
Автор выражает благодарность за помощь в работе над статьёй Юрию Пашолоку, Алексею Макарову и Виктору Ухову
Источники и литература: